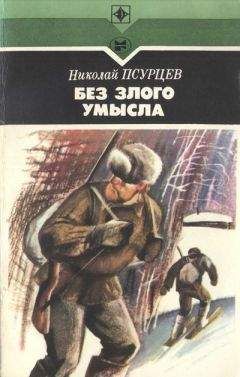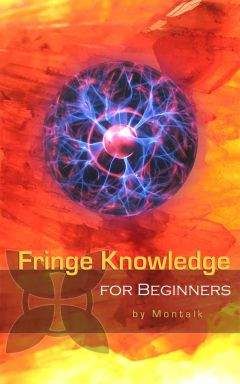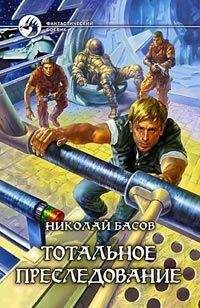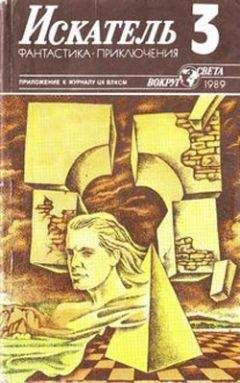Николай Псурцев - Тотальное превосходство
— Не стоит бегать за призраками. Надо обыкновенно посмотреть в себя. Ты единственно реальный в этом мире. А значит, только ты и решаешь. Ненавижу тех, кто не знает, как реализоваться. Но не просто реализоваться, а правильно, то есть так, как следует по предназначению. Грезящие о другой жизни и ничего не предпринимающие для того, чтобы свою нынешнюю жизнь изменить, — сор. — Уголки губ Кудасова не падали, как приколотые булавками, невидимыми, поддерживали улыбку, но он злился, но он нервничал. — Они несчастны и бесполезны. Они вредны. Они бедны. Им ничего не интересно. Они ни во что не верят. Они не имеют стимулов. И не ищут их. Сонно принимают происходящее. Сомневаются. Рыдают, когда не так уж и плохо. Сомневаются. Умирают, когда есть еще миллионы возможностей… Но спички, вместе с тем, всегда лежат в их карманах. Требуется только догадаться об их существовании. Это трудно. Но тем не менее исполнимо… И ты это доказал. Ты догадался об их существовании. И даже попытался несколько раз осветить себе ими дорогу. Спички зажигались, но быстро затем затухали… Дело в том, что ты так все еще до конца и не поверил, что они у тебя есть и были всегда. Ты не веришь, и они гаснут. Ты не веришь, и они гаснут. Ты не веришь… Если бы верил, то никогда бы не остановился в том месте, где стоишь, например, сейчас. Это иррационально, это метафизично, называй как угодно, но это действительно так — если бы ты верил, ты бы никогда не наступил на то место на арене, на котором оказался сейчас…
Топнул ногой по опилкам как в сердцах, облачко пыли скакнуло вверх вбок, опилки обсыпались с неприметной мелкой кочки под ногой Кудасова, и вместо кочки появилась черная прямоугольная коробочка, пластмассовая или металлическая, я не видел, не различал, хотя и подался вперед, и щурился, и хмурился, любопытный и любознательный, и сопел носом прерывисто и отрывисто и иногда ртом, не понял значения последних слов Кудасова, не там стоишь, не туда идешь, веришь — не веришь, придурок он и есть придурок… Но не он придурок, как выяснилось, а я придурок, случилось…
Но это я уже сообразил только тогда, когда на бешеной скорости мчался вниз головой и кверху ногами под купол цирка — слюна сыпалась на арену, пистолет ее опередил…
На арене Кудасов спрятал петлю, завязанную на конце тонкого тросика лонжи, запорошил ее опилками, скрывая, утаивая, маскируя, ждал, когда я наступлю, когда моя нога или сразу две попадет, попадут в зону охвата, действия петли; вот что Кудасов, теперь ясно, имел в виду, когда заявлял о том, что, если бы я верил, я бы именно вот на этом самом месте сейчас не стоял, на котором еще мгновения тому назад все-таки стоял, и он прав, не стоял бы точно, если бы был Мастером (и неважно, в каком ремесле, в каком-нибудь), то есть если верил бы, то есть если не сомневался бы…
Под своей ногой Кудасов хоронил пульт управления, поднять-опустить, майна-вира — но до этого я потом только уже додумался, когда болтался, качался, подвешенный за две ноги, недалеко от сферического потолка, рядом с трапециями, колыхался рядом с какими-то веревочками, какими-то проволочками, какими-то тросиками, какими-то струнами; дуло с потолка, с купола в потную промежность; языком вылизывал холодный сквозняк, как пил… Сердце билось так, что каждый удар его — а удары наносились по грудной клетке часто, чаще только перед смертью — сотрясал меня и подбрасывал меня.
Так страшно!
Но я уже что-то сделал — то, чего еще не было в этом мире. Успел. Могу быть, собственно, теперь спокоен. Жаль, конечно, что рано. Но никто не в состоянии определить на самом деле, что такое рано, а что такое поздно. Я смирился. Но я вместе с тем также и должен бороться. Бесстрастно. Без эмоций. Просто совершая необходимые действия. Только и всего. Не так уж, признаться, и сложно. Сложно, как никогда и ни у кого…
Я боюсь, несмотря ни на что.
И я одновременно люблю свой страх…
Я люблю его, потому что владею им. Он моя собственность…
Я засмеялся.
Мой страх — моя собственность! Я его Хозяин! Я, мать вашу, и никто другой, мать вашу!..
Мне сверху видно все, ты так и знай. Кудасов знал. Поэтому представление продолжал. Он неглупый и много говорит правильного и необходимого, может быть, даже единственно верного, но, слушая его, сопротивляешься ему, не желаешь принять его, не желаешь довериться ему… Что-то не так в нем, а значит, соответственно и в его словах, его слова больные… Кудасов разнял руки, они, крутясь, как листочки осенью, попадали вниз, все вместе, или какая-то раньше, а какая-то позже, Кудасов кричал, притоптывая на месте, разворачивал влево, вправо с силой плечи, бил непослушными, высохшими, шуршащими руками себя по груди, по спине.
— Больно! — Выгонял голос из горла, неподатливый, упирающийся, незнакомый. — Ты себе не представляешь, как больно! Но зато я чувствую себя! Чувствовал, когда из них уходила кровь, и теперь чувствую, когда она проникает обратно… Я страдаю, и я наслаждаюсь… Когда руки заполнятся наконец, я себя опять потеряю. Я исчезну. Меня не будет. Я перестану ощущать себя. Начнется другая жизнь. Без меня… Я понимаю, все это фантазии, да, да, наверное, и я в реальности существую, здесь и сейчас, и не вчера и не в будущем, это так, это так, я уверен, конечно, но… но а вдруг, мать вашу, меня действительно нет?!
Бил руками по бокам, как птица, которая истязает себя ударами крыльев, когда не может взлететь, тряс головой, наклонившись вперед, будто что-то клевал в воздухе, птица, птица, суетился, прыгал меленько, топтался, туда-сюда поворачиваясь, за круг света заступал, возвращался обратно, охал, ахал, кряхтел, искал, искал, не находил, искал, искал… Нашел!
Конец другой лонжи.
Тоже в опилках.
Там, в темноте. За светом. За дыханием. За сердцем. За правильным и строгим обменом веществ. За теплом. За уютом. За чем-то таким, что, возможно, похоже на радость.
Заежился, застонал, когда обмакнулся в темноту. Окрасился тотчас же. Жмурился. Хныкал. Плевался. Не надеялся. Не верил. Только искал. Но теперь уже не конец другой лонжи, а, как я понимаю, догадываюсь, вижу, средство для поддержания жизни… Дышал часто и крупно, много, килограммами, литрами, десятками, сотнями — впихивал в себя воздух руками… Так хочется жить! Так хочется. Господи! И вечно, вечно, вечно!!! Чтобы не страдать от времени. Не слышать его звона, гула, свиста — оглушающих, подавляющих, разрушающих. Не чувствовать боли, которую оно беспрестанно, жестоко, издевательски, сознательно, умело и с удовольствием вколачивает в каждую частичку твоего слабого, ненадежного тела… Чтобы не жалеть и не печалиться. Не надеяться и не бояться. И любить, любить, любить! И никогда, и ни к кому, и ни к чему не испытывать ненависти. Чтобы собирать наслаждение — от всего-всего и от самосовершенствования более, чем от чего-либо еще. И отдавать, отдавать, отдавать! Дарить… Чтобы создавать. И много. Бесчисленно. Разного и полезного. Нового. Того, без чего можно, конечно же, пока обойтись, но лучше тем не менее все-таки в будущем не обходиться… Но где же такое средство?! Нет, нет его! И не может, наверное, быть! Сейчас. Сегодня. Вот нынче. Возможно, когда-нибудь потом… Но он не доживет… Нет страха. Сожаление. Пытка бессилием. Грустью. Тоской. Отчаянием. Реальностью. Правдой…
Стряхивал пот, смеясь, мелкой водяной пылью насыщая столб света, на ресницах качались жирные капли, член надувался-сдувался, обеспокоенный бездельем и ожиданием, рот рассказывал о чем-то самостоятельно — о запахе керосина, свежего молока и горячего черного хлеба в комнатах какого-то уютного дома, о невыправляемой восьмерке, что горько и обидно на самом деле, на переднем колесе велосипеда «Орленок», о затертом, пятнистом, нагретом солнцем, пахнущем до сих пор кожей футбольном мяче, застрявшем в кустах малины у дачного забора, о дырявой лодке на реке, о скрипучих, щербатых веслах, о худенькой, длинноволосой девочке Анечке, переодевающейся на берегу — ранним утром, почти еще ночью, о первой сигарете, о первом глотке портвейна, о первой поллюции, о первой мастурбации, о первом осознании неизбежности собственной смерти, о первой злости на жизнь, о первом желании убивать…
Облепил живот, поясницу и бока кожаным поясом, напичканным металлическими пластинами. Сзади тонким голым хвостиком потянулся трос лонжи, вздрагивал, подскакивал, вилял, закручивался в колечки.
Я хотел закричать, но не мог уже. Кровь набилась в голову. Распухло горло. Попробовал осмотреться, но не сумел уже. Глаза набухли. Разорвутся, лопнут… Различал только смутно-мутно сияющие плечи Кудасова — он будто для чего-то, для еще большего, может быть, устрашения меня наклеил себе на кожу пылающие истовым пламенем погоны… Сердце пыталось выкатиться наружу из горла, но я держал его самоотверженно зубами и языком, проглатывал, заглатывал. Сердце пробовало протиснуться ожесточенно между ребер, но я запихивал его обратно беспощадно и непримиримо руками, заталкивал, уминал…