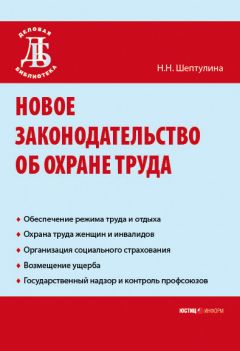Джоджо Мойес - Девушка, которую ты покинул
Она слегка раздражена настойчивостью Свена. У нее в голове вертится вопрос Мо: «Что, по-твоему, сделал бы Дэвид?»
Но затем Лив замечает, какое у Свена осунувшееся, серое лицо. И ведет он себя как-то странно. Сидит, уставившись на лежащий перед ним блокнот.
— У тебя все нормально? — спрашивает Лив, начиная паниковать. «Ну пожалуйста, скажи, что Кристен с детьми в порядке».
— Лив, у меня проблемы, — начинает Свен, и Лив без сил опускается на стул, положив сумочку на колени. — Братья Голдштейн отказываются от сотрудничества.
— Что?
— Они разрывают контракт. И все из-за твоей тяжбы. Саймон Голдштейн звонил сегодня утром. Он следит за публикациями в газетах. Говорит… говорит, нацисты отобрали у его семьи все и они с братом не хотят иметь дело с теми, для кого это нормально.
В комнате вдруг становится очень тихо. Она поднимает глаза на Свена:
— Но… они не могут так поступить. Я ведь даже не компаньон фирмы. Так ведь?
— Лив, ты по-прежнему почетный директор, а имя Дэвида играет немаловажную роль в линии защиты. Саймон хочет воспользоваться оговоркой, напечатанной мелким шрифтом в контракте. Ты борешься за это дело в суде вопреки здравому смыслу, а заодно бросаешь тень на репутацию нашей фирмы. Я объяснил ему, какое это опрометчивое решение, на что он ответил, что мы можем попробовать опротестовать его, но у них бездонные карманы. Повторяю дословно: «Свен, вы, конечно, можете судиться со мной, но я непременно выиграю». Они собираются предложить другой фирме завершить работы по проекту.
Лив цепенеет. Голдштейн-билдинг должен был стать апофеозом творчества Дэвида: зданием, призванным увековечить его.
Она смотрит на неподвижный, словно вырубленный из камня профиль Свена.
— У них с братом крайне болезненное отношение ко всем вопросам, связанным с реституцией.
— Это же несправедливо. Мы ведь так и не знаем всей правды об истории картины.
— Не в этом дело.
— Но мы…
— Лив, я целый день пытаюсь разрулить вопрос. Единственный способ уговорить их продолжить работу с нашей компанией, — набирает в грудь побольше воздуха Свен, — сделать так, чтобы имя Халстон никаким боком не было связано с проектом. Иными словами, ты отказываешься от звания почетного директора. И мы меняем название фирмы.
Лив мысленно прокручивает слова Свена, чтобы осознать до конца их смысл.
— Так ты что, собираешься навсегда вычеркнуть имя Дэвида?
— Да. Мне очень жаль. Я понимаю, что это для тебя потрясение. Но и для нас тоже.
И тут она неожиданно вспоминает о еще одной, очень важной для нее вещи.
— А как насчет моей работы с детьми? — спрашивает она.
— Мне очень жаль, — качает головой Свен.
У Лив внутри будто все заледенело. Помолчав немного, она начинает говорить, только очень и очень медленно, ее голос звучит неестественно громко в звенящей тишине.
— Итак, вы приняли такое решение только потому, что я не захотела отдать нашу картину — картину, которую Дэвид совершенно законно купил много лет назад, — и тем самым якобы опозорила фамилию Халстон. И вы вычеркиваете наше имя из благотворительных проектов и названия фирмы. Вычеркиваете имя архитектора, который создал это здание.
— Не надо смотреть на вещи так мелодраматично. — Вид у Свена слегка обескураженный. — Лив, возникла чертовски сложная ситуация. Но если я встану на твою сторону, сотрудники компании рискуют потерять работу. Ты же знаешь, как мы завязаны на Голдштейн-билдинг. «Солберг-Халстон» просто не выживет, если они откажутся от наших услуг. — Свен наклоняется над письменным столом и тихо добавляет: — Сама понимаешь, клиенты-миллиардеры на дороге не валяются. И мне приходится думать о своих служащих.
За дверью кто-то громко прощается. Слышится взрыв хохота. Но в кабинете сейчас стоит напряженная тишина.
— Итак, если я отдам картину, они сохранят имя Дэвида как автора проекта?
— Мы еще не обсуждали. Возможно.
— Возможно, — переваривает Лив это слово. — А если я скажу «нет»?
Свен нервно постукивает шариковой ручкой по письменному столу:
— Мы ликвидируем фирму и учредим новую.
— И тогда Голдштейны останутся с вами?
— Скорее всего, да.
— Значит, от моего ответа ничего не зависит. И ты пригласил меня чисто из вежливости.
— Лив, мне страшно жаль. Но положение пиковое. Я в пиковом положении.
Лив молча сидит секунду-другую, затем встает и, ни слова не говоря, выходит из кабинета.
Час ночи. Лив, задрав голову, прислушивается, как Мо ходит по гостевой комнате, застегивает молнию портпледа, тяжело опускает его на пол возле двери. Она слышит звук спускаемой воды в туалете, осторожные шаги наверху — и все, тишина. Мо уже спит. Лив лежит и не знает, что делать. Может, все-таки стоит подняться наверх и попробовать уговорить Мо не уезжать, но слова, возникающие в голове Лив, упорно не хотят выстраиваться в нужном порядке. Она вдруг вспоминает о находящемся в нескольких милях отсюда недостроенном стеклянном здании, имя архитектора которого будет закопано на глубину фундамента.
Тогда она берет лежащий возле кровати мобильный телефон. И смотрит на светящийся экран.
Никаких новых сообщений.
Одиночество накатывает на нее, причиняя почти физическую боль. Стены спальни вдруг кажутся очень уж непрочными, не способными защитить от враждебного мира снаружи. Дом больше не прозрачный и безупречный, как задумал его Дэвид: его пустые пространства холодны и безжизненны, а чистые линии нарушены переплетениями с линиями судьбы, стеклянные поверхности запачканы прикосновениями к изнанке жизни.
Лив пытается подавить приступ тихой паники. Она вспоминает о дневнике Софи, о заключенной, которую везут в поезде неведомо куда. Если она покажет документы в суде, то, возможно, сумеет сохранить картину.
«Но тогда, — размышляет Лив, — Софи навечно останется в памяти людей как женщина, переспавшая с немцем и предавшая свою страну, так же как и своего мужа. И я буду ничуть не лучше жителей Сен-Перрона, которые в трудную минуту оставили ее одну».
Что сделано, того не воротишь.
29
1917 г.
Я перестала оплакивать родной дом. Трудно сказать, как долго мы ехали, поскольку день перепутался с ночью, а сон — с явью. Когда мы уже порядочно отъехали от Мангейма, у меня вдруг страшно разболелась голова, а потом начался такой жар, что я с трудом поборола желание сбросить с себя всю одежду. Лилиан сидела рядом, вытирала мой мокрый лоб своей юбкой и помогала мне во время коротких остановок. Ее глаза запали, лицо осунулось от напряжения.
— Мне скоро полегчает, — твердила я ей, одновременно уговаривая себя, что это всего лишь простуда — неизбежный результат напряжения последних дней, холода и стресса.
Грузовик трясся и вилял, объезжая рытвины, брезент раздувало ветром, и внутрь залетали ледяные капли дождя. Голова нашего молоденького конвоира моталась из стороны в сторону. Иногда после особенно сильных толчков он открывал глаза и грозно смотрел на нас, будто хотел предупредить, чтобы мы сидели смирно.
Я прикорнула на плече у Лилиан, время от времени просыпаясь и вглядываясь сквозь щель в брезенте в пейзаж за нашей спиной. Я видела, как разбомбленные приграничные поселки сменялись более-менее аккуратными городками с уцелевшими рядами домов. Их потемневшие балки казались черными на фоне белой штукатурки стен, в их садах виднелись подстриженные кусты и аккуратно возделанные грядки. Мы ехали мимо больших озер, шумных городов, пробирались, увязая в грязи, по разбитым лесным дорогам. Нас с Лилиан практически не кормили; лишь изредка нам в кузов бросали, точно свиньям, по куску черного хлеба, который мы запивали водой.
Но потом жар еще больше усилился, и есть почти расхотелось. Болело буквально все тело: голова, суставы, шея, поэтому я уже не обращала внимания на сосущее чувство в животе. Аппетит пропал, и Лилиан приходилось уговаривать меня, несмотря на боль в горле, сделать хотя бы глоток воды. И хоть чуть-чуть поесть, чтобы совсем не ослабеть. Она говорила со мной с таким надрывом, будто хорошо знала, что нас ждет, но скрывала от меня. После каждой остановки ее глаза все больше округлялись от страха, и, несмотря на то что разум мой слегка помутился от болезни, ее страх передался и мне.
А во сне черты лица Лилиан были страдальчески искажены, что говорило о терзающих ее кошмарах. Иногда, просыпаясь, она хваталась руками за воздух и стонала от несказанной муки. И тогда я брала ее за руку, пытаясь вернуть назад в действительность. Я смотрела на немецкую землю, по которой нас везли, хотя и сама не знала, какой теперь в этом смысл.