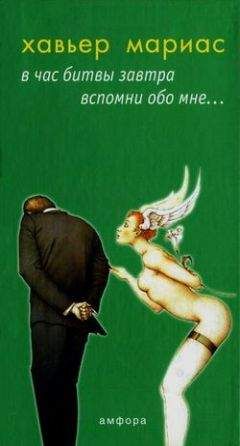Берта Исла - Мариас Хавьер
А иногда я мысленно к нему обращалась: “Как мало мне про тебя известно. Я не знаю и половины про твою жизнь, возможно самой важной для тебя самого половины. Не знаю, каким ты бываешь вдали от меня, во время твоих поездок, твоих по-мальчишески безрассудных подвигов, которые наверняка и обрекли тебя на жестокую смерть. Сколько напрасных страданий тебе довелось перенести. Сколько страха тебе довелось испытать. Сколько мерзостей ты совершил, каким тяжким бременем они легли на твою совесть и как терзали душу. Сколько бессонных ночей ты провел, сколько кошмарных снов видел, когда тебе снилось, будто кто-то давит коленом на твою грудь, да что там коленом, будто туша огромного зверя навалилась на тебя – туша коня или быка, – и самому сбросить ее с себя не хватает сил. Сколько женщин любили тебя, и скольких ты обманул и унизил. Сколько секретов вытянул из тех, кто доверился тебе, скольких людей погубил, хотя твои жертвы от тебя этого не ожидали и встретили смерть с изумлением. Какую кривую дорогу ты себе избрал, даже если это и принесло много пользы. Я ничего про все это не знаю и никогда не буду знать, потому что ты не вернешься. А если вернешься, ничего мне не расскажешь, все равно ничего не расскажешь. Ни где ты провел эти годы, ни что с тобой было, ни почему не захотел или не смог вернуться, подать весть о себе или хотя бы позвонить и сказать: “Я жив. Жди меня”. Трудно понять, почему я осталась с тобой и почему до сих пор не могу окончательно с тобой расстаться, когда тебя уже нет, нет ни здесь, ни в каком-то другом месте. И никогда не будет. Твоя жизнь остановилась, а моя продолжается, но без особого смысла, бредет сама не зная куда, если только путь не указывают мои дети, твои дети – они мой компас, – но ты их не знал и не узнаешь. Всякий раз, когда я пыталась отыскать собственный путь, отдельный от их или твоего пути, дорожка вдруг обрывалась, и я начинала плутать. Я смотрю на твои пустые костюмы, и мне приходит в голову, что, если бы ты сейчас стоял передо мной и я могла видеть тебя, ты тоже показался бы мне пустым – с оттянутыми карманами, с пузырями на коленях, с пятнами и складками, и ты сам – тоже полым внутри. Я бы увидела пустоту и молчание или, в крайнем случае, услышала бы все те же строки Элиота, похожие на стершиеся надписи на занесенной снегом плите. В крайнем случае – шепот на ухо, которого не расслышу. Я знаю тебя с юности. С тех пор я безоглядно любила тебя. Но потом, в этом долгом потом, которое я тяну на себе и которое меня еще ждет, я знала о тебе слишком мало.
Меньше чем за год, в течение одиннадцати месяцев, умерли мои родители и мать Томаса мисс Мерседес, как называли ее ученики в Британской школе. Уходило целое поколение, и они словно сговорились обозначить своим уходом конец некой истории. Только Джек Невинсон не присоединился к ним и остался грустить в полном одиночестве. Две его дочки и второй сын уже давно жили отдельно, уехав из Мадрида. Одна из дочерей пару недель назад наведалась в столицу, чтобы побыть с отцом первое время, но в Барселоне у нее остались дом, муж и девочка, и скоро ей пришлось вернуться обратно. Вторая, работавшая в Брюсселе, приехала только на похороны матери, а сын Хорхе не явился даже на похороны, сославшись на срочные дела и слишком дальний путь; он не имел никакого отношения ни к филологии, ни к дипломатии и уже несколько лет руководил какой-то санитарной службой в Канаде. Хорхе еще в юности откололся от семьи и не считал нужным ради встреч с родственниками пересекать океан, не счел это нужным и на сей раз. “В общем и целом, – сказал он по телефону сестре, – маме уже все равно, буду я там или останусь здесь. И не говори мне, что ей бы хотелось, чтобы мы проводили ее все четверо. Она ни о чем таком не узнает, и в любом случае Томаса с вами тоже нет. А я не меньше горюю по ней и у себя в Монреале”. В Канаде его называли Джорджем.
У меня сложилось впечатление, что Джек, лишившись жены, впервые задался вопросом, какого черта он торчит в чужой стране, чей язык так и не сумел толком выучить и где его уже ничего не удерживало – ни привязанности, ни работа. Да, иногда он заглядывал в Британский совет и в посольство, но знакомых там у него почти не осталось, да и люди стали другими, не такими преданными своему делу. Однако о возвращении в Англию речи не шло: он, пожалуй, мог бы вернуться в ту страну, какой она была когда-то в прошлом, или если бы сам сохранился в тогдашнем своем возрасте, а две эти вещи никогда не прерывают движения – никогда и нигде. Власть в любой стране захватывают те, кто рождается против собственной воли, а мы против собственной воли превращаемся в зрелых людей или стариков, которые захватывают власть над нами.
Наверное, Гильермо и Элиса – а может, еще и я – стали для Джека главной опорой, потому что мы старались почаще с ним встречаться и придавали какой-то смысл его пребыванию на земле: внуки, практически с рождения росшие без отца, и невестка, официально считавшаяся вдовой, а теперь потерявшая и родителей. А он всегда старался – по своему обыкновению осторожно и робко – заменить нам Томаса, а после наших недавних утрат ненавязчиво предложил себя и на роль моего отца. В сложившихся обстоятельствах он скорее считал своей дочерью меня, чем родных дочерей, а Гильермо и Элиса и так были ему родными внуками, к тому же часто его навещавшими, детьми погибшего при исполнении долга сына, которого ему не довелось ни похоронить, ни оплакать раз и навсегда. (Вот еще одна сложность, возникающая, когда кто-то пропадает и тело его не найдено: горе растягивается на этапы, его нельзя пережить сразу же и во всей полноте, то есть нельзя посвятить этому положенный траурный период, поскольку этот период перемежается сомнениями и отсрочками.) Однако мы не стали частью повседневной жизни Джека, хотя после того, как умерла мисс Мерседес и он остался один в их квартире на улице Хеннера, я каждый день звонила ему, прежде чем идти на факультет или сесть за работу дома, проверяя, проснулся ли он в добром здравии. Конечно, не слишком уместно говорить об этом вслух, но на самом деле я должна была tout court [43] убедиться, что ночью он не умер – тихо и в полном одиночестве. Мобильных телефонов тогда еще не было, но автоответчики уже появились. Если он не отвечал на мой звонок, я оставляла сообщение, прося перезвонить, и волновалась, пока он этого не сделает. То, что Томас не появился даже после смерти матери, стало еще одним гвоздем в крышку его гроба, хотя я, разумеется, мало на такое появление надеялась. Томас был по-своему очень к ней привязан (но если бы скончался и Джек, в гроб Томаса был бы вбит последний гвоздь), и сообщения о ее кончине были напечатаны во многих местах. Джек оплатил траурные объявления в паре газет, еще за одно заплатил Британский совет, а несколько дней спустя коллега Мерседес сумел поместить в газете короткий некролог с очень искренними и теплыми словами в ее адрес. Естественно, если бы Томас был жив, но находился в какой-нибудь очень далекой стране, он бы вряд ли об этом узнал.
Забив и этот последний гвоздь в крышку гроба Томаса, я совершила нелепый и бессмысленный поступок – решила отыскать парня, хотя теперь он уже вряд ли был похож на парня, с которым когда-то потеряла невинность. История вышла случайная и не имела продолжения. Я познакомилась с ним на улице, когда убегала от “серого” полицейского во время студенческой акции. Дело было в 1969 году, мне еще не исполнилось и восемнадцати. Он вытащил меня практически из-под конских копыт и сумел усмирить всадника, а потом я оказалась у него дома, так как надо было обработать мне рану на коленке. Парень был бандерильеро, жил рядом с площадью Лас-Вентас, и звали его Эстебан Янес. Я даже не успела понять, как это у нас с ним получилось. Все вышло вроде бы само собой и объяснялось, видимо, свободой сексуальных нравов, царившей в ту эпоху, а также моим отупением после пережитых страхов, а также моим любопытством. А еще тем, что Эстебан от природы был весьма привлекателен. Черная копна волос, синие глаза с отливом в сливовый, густые брови, какие бывают у южан, прекрасные зубы, простодушная улыбка и потрясающая невозмутимость. А Томас уже уехал учиться в Оксфорд и в Мадрид возвращался только на каникулы.