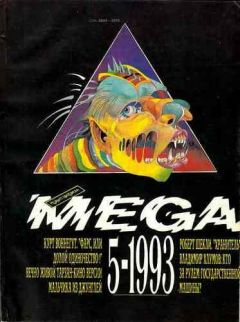Роберт Хелленга - 16 наслаждений
Неделю спустя я села на поезд в Базель. Мне надо было обновить гостевую визу, а значит, что я должна была покинуть страну, и я хотела, чтобы у меня в паспорте стояла пограничная отметка, подтверждающая, что я выезжала за пределы Италии. Мне не нужно было ехать до самого Базеля, но в голове у меня окончательно сформировался план. Я намеревалась взять Аретино на аукцион в «Сотби», но требовалось объяснить, откуда у меня эта книга. Я не могла сказать правду, так как истинным владельцем был не монастырь Санта-Катерина, а епископ Флоренции или далее сама церковь. Но если мне удалось создать ложный след, который вел бы не в Санта-Катерина, а через границу в Швейцарию… Если бы я могла доказать, что приобрела «Preghiere cristiane» в Базеле – скажем, по дороге в Италию тогда, в ноябре, или же в настоящее время, – не было бы необходимости получать лицензию на вывоз, не было бы нужды ничего объяснять. Библиотека Ньюберри поддерживала деловые отношения с несколькими продавцами книг в Базеле; вполне вероятно, что я могла найти там еще один экземпляр этой книги. Молитвенники семнадцатого века не были такой уж большой редкостью. Несомненно, детали молено будет выяснить по прибытии в Базель.
Я не смогла заказать билет в спальный вагон, и мне не нравилась перспектива сидеть в одном купе еще с четырьмя пассажирами – двумя маленькими детьми и их родителями, но я захватила с собой мою любимую «Эмму», чтобы отгородиться от внешнего мира, и, как только поезд тронулся, достала ее из сумки. Это было добротное старое издание конца девятнадцатого века, прошитое настоящей тесьмой, с форзацем, под мрамор и с капталом ручной работы. Кожа была все еще в хорошем состоянии, но целлюлозная бумага – продукт современной технологии – сделалась такой хрупкой, что невозможно было перевернуть страницу, чтобы не порвать уголок.
В сумке также хранился Аретино, поскольку я неохотно расставалась с ним, и я для верности придерживала сумку, зажав ее между ногой и стенкой купе, что вызвало любопытство у девочки, которой было лет пять-шесть. Она вертелась возле моего колена и с усилием дергала за ручку сумки, которую я дважды обмотала вокруг своей руки.
– Nein, nein, nein.[157] – Мать девочки, сидевшая у окна напротив меня, не шелохнулась; она лишь произносила nein в мою пользу. Девочка не обращала на нее никакого внимания.
Отложив «Эмму» в сторону, я посадила девочку себе на колени, и у нас состоялась беседа. Она задавала вопросы по-немецки, а я отвечала по-английски, к большому удивлению ее отца, единственного из присутствующих, кто знал оба языка.
– Когда вы приедете в die Schweiz, – сказал он по-немецки, наклоняясь вперед и улыбаясь, – вам не придется там крепко прижимать к себе свою сумочку.
– Осторожность никогда не помешает, – ответила я.
– Никогда, – согласился он, – особенно… – Он кивнул в сторону окна, показывая, как я полагаю, что мы в Италии. – Zigeuner повсюду. Говорят, в Наполи еще хуже. – Он закрыл глаза и невольно содрогнулся.
– Zigeuner?
Он заглянул в свой итальянско-немецкий словарь канареечного цвета – Zingaro, zingari.
– Цыгане.
– Zingari в подземных туннелях. Моя маленькая Schatzli была напугана, не так ли? – сказал он, забирая девочку с моих колен. – Говорят, что они богаты, живут как короли.
– В la Svizzera нет цыган.
– Нет, ничего такого. Вы знаете, что Гете говорил о die Schweiz?
Я не знала.
– Он говорил, что счастлив, что знает, что существует такая страна, как die Schweiz, где он всегда может найти пристанище.
– Повезло ему, – сказала я, – а знаете, что говорил об Италии?
Швейцарец не знал этого. Я тоже не знала, но я повторила что-то, что часто слышала от мамы: он говорил, что человек, уставший от Италии, устал от жизни.
Швейцарца это не умилило, и его семья, во главе с ним, сомкнула свои ряды, внезапно сменив настроение. Мама стала что-то показывать девочке в окне. Папа и сын начали разговор по-немецки. Я открыла книгу.
Я заставила себя читать в течение двух часов, на протяжении которых Эмма обнаружила, что Гарриет Смит была влюблена не во Фрэнка Черчиля, а в господина Найтли, от которого она ждала предложения, и что она, Эмма, на самом деле сама была влюблена в господина Найтли. В очередной раз она абсолютно неправильно истолковала истинное положение дел: ее усилия свахи привели все вовлеченные стороны на край погибели, и теперь она стояла перед лицом второго унижения.
Бедная Эмма! Но Эмму в конце ее истории ждал господин Найтли, человек, который видел вещи такими, каковы они есть, и который был добродетелен, честен, надежен, благороден… был всем, чем Сандро не был. Я собрала в себе всю мудрость, какую могла, – за нас обеих, за Эмму и за себя. Я насмехалась над собственными надеждами и страхами. Но то, что я их за собой признавала, делало их лишь более реальными, придавало им какую-то новую власть надо мной, как будто я в глубине души признавала преимущество Нормана Роквелла, скажем, над Джотто или Леонардо. Нельзя познать истинного счастья, говорила мне мадре бадесса, до тех пор, пока ты не откажешься от желания своего сердца. Но я не могла не представлять, будто пустое место в купе принадлежало Сандро и будто он просто вышел в вагон-ресторан заказать что-нибудь особенное (что-нибудь, не входящее в обычное меню) нам на ужин.
Позже, посреди ночи, когда мы пересекли границу и были разбужены пограничной полицией, которая пришла проверять наши паспорта, швейцарец, желая восстановить теплые отношения, спросил меня, где находится мой дом, и я не знала, что сказать ему.
– Дом, – сказала я, – это место, где тебя должны принять, когда тебе придется туда поехать.
Он не понял.
– Так говорила моя мама, – пояснила я. – Это что-то вроде шутки. Из какого-то стихотворения.
– Шутка. Ein Witz. Пожалуйста, повторите еще раз.
– Дом – это место, где тебя должны принять, когда тебе придется туда поехать.
– А, – улыбнулся он, показывая, что понял. – И где это?
– Техас, – сказала я.
– И вам очень нравится Техас? – спросил он.
– Не знаю, – ответила я, – я там никогда не была.
В Базеле было холодно на улице и тепло в домах, в отличие от Флоренции, где закон требовал выключать отопление первого апреля, независимо от погоды. Я думаю, когда на улице становится довольно холодно, как сейчас в Швейцарии, ты должен защищать себя, обращать больше внимания на то, чтобы оставаться в тепле. Жизнь проходит в домах, не на улице. Моя комната в «Швайцерхофе», на площади, напротив станции, была gemutlich, уютной, как и сама Швейцария, по мнению Гете. Печка под окном, облицованная кафелем (что само себе уже было настоящим произведением искусства), излучала тепло. Кресло, стоявшее неподалеку от нее, было достаточно большое, чтобы свернуться в нем калачиком. Кровать, в отличие от той, что мы делили с Сандро в Риме, была большая и тяжелая – кровать, которая не грозит развалиться, когда на ней занимаешься любовью; кровать для серьезного сна под пуховым стеганым одеялом, с головой на высоких подушках и с ногами в тепле. Все это действительно соблазняло прилечь.