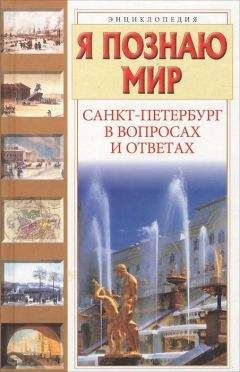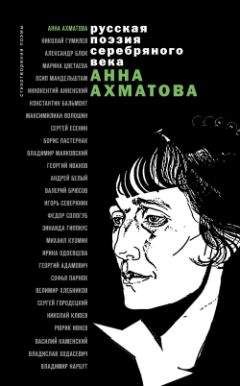Вячеслав Недошивин - Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург
Словом, Надя, пораженная изменой, все-таки собрала свой чемодан. Написала мужу записку, что уходит к другому. Добавила: «К тебе не вернусь». Уходила к художнику Татлину, в прошлом боцману и бандуристу (у него было хобби – делать бандуры и петь под них тягучие казацкие и украинские песни). Он жил тогда неподалеку, прямо в мастерской своей – в «доме Мятлевых» на Исаакиевской (Исаакиевская площадь, 9), где ныне прокуратура города. К тому самому Татлину, который уже создал знаменитый макет башни Третьему интернационалу (некую архитектурную двойную спираль, предвосхитившую двойную спираль молекулы ДНК, открытую только в 1953-м гениальными биологами Джойнсом Д.Уотсоном и Френсисом Криком) – ее он хотел, кстати, водрузить в центре Дворцовой площади вместо Александрийского столпа. Вот он-то, Татлин, несмотря на миниатюрную свою жену, которую за субтильность «величали» Молекулой, и звал Надю к себе. Специально в решительный час зашел за ней на Морскую. Но… что-то забыв, вернулся Мандельштам. Увидев чемодан, он, пишет Надежда Яковлевна, взбесился, каким-то образом вытолкал топтавшегося боцмана и схватился за телефон – названивать Ольге. «Простился он с ней грубо и резко: я остаюсь с Надей, больше мы не увидимся, нет, никогда».
Наде Мандельштам расскажет потом, что бы он сделал, если бы она бросила его. «Он решил достать пистолет и стрельнуть в себя, но не всерьез, а оттянув кожу на боку. Рана бы выглядела страшно, опасности же никакой. Я бы, конечно, пожалела его и вернулась. (В этом он, пожалуй, ошибается), – пишет Надежда Яковлевна. – Такого идиотизма даже я от него не ждала, откуда берутся такие хитрецы!..» Звучит, признаюсь, как глупая шутка то ли ее, то ли Мандельштама – достанет пистолет, стрельнет в себя… Не шутка другое – весной 1925-го у поэта случился первый сердечный приступ. И тогда же впервые он стал задыхаться, хватать воздух губами, появилась одышка, которая не пройдет уже никогда. «Была ли тут виной Ольга?» – неизвестно кого спрашивала потом Надежда Яковлевна. И сама же отвечала: «Не знаю»…
Но пистолет, кстати, пистолет еще выстрелит в этом странном и страшном «любовном треугольнике».
…Лютик съездит на юг, но с младшим братом поэта, с которым семейной жизни тоже не получится. А потом на Невском, столкнувшись с давней знакомой, которая, глянув на платье Ольги, заметит: «Такие воротнички скоро выйдут из моды», – скажет: «А я только до тридцати лет доживу. Больше не буду…» И хотя вскоре в нее влюбится вице-консул Норвегии в Ленинграде Христиан Вистендаль – красавец, на взлете карьеры, хотя в 1932 году он, уже как жену, увезет ее в Осло, счастья женщине (помните слова поэта?) никто не может обещать.
Ольга, а из-за нее и муж ее скоро погибнут… А вот как умирают аристократы, женщины с «яблочной розовой кожей», я расскажу у последнего в Петербурге дома Мандельштама, где он и поселится как раз тогда, когда это случится…
21. СМЕРТЬ… ЗА СТИХИ (Адрес пятый: Васильевский остров, 8-я линия, 31, кв. 5)
Есть люди, считанные единицы, задающие не просто тон – меру и высоту жизни. Так вот, оказаться рядом с Мандельштамом в 1932 году, когда он поселился в высоком доме на Васильевском острове[88], было все равно что сподобиться быть рядом «с живым Вергилием». Это не мои слова – так сказал поэт Рудаков, погибший позже на фронте; он знал Мандельштама по ссылке в Воронеже. Сказал не для публики – выдохнул это в письме к жене.
Живой Вергилий – каково! Так вот, Мандельштам, страдающий одышкой и головокружением, не раз поднимался по лестнице этого дома, здесь ему «ударял в висок вырванный с мясом звонок», и здесь ждал гостей дорогих, «шевеля кандалами цепочек дверных». Цепочка, кстати, сохранилась на дверях черного хода и доныне; к этим «кандалам» я притрагивался, признаюсь, не без трепета…
Я говорил уже, что, наезжая в Ленинград, поэт словно возвращался в детство. Гуляя по городу, как ребенок, хвастался, скажем, зрением. С Ахматовой придумал игру – она была возможна только здесь, на бесконечных и прямых улицах: кто первым разглядит номер приближающегося трамвая? «У меня морское зрение», – говорила Ахматова. «Это означало, что она… из семьи моряков, – пишет Н.Мандельштам. – Я напоминала, что моряки у нее сухопутные…» «Вы всегда так», – делала вид, что обижается, Ахматова. «Она всегда так, – подхватывал Мандельштам, – она такая…» В игре «за ошибку полагался штраф, – вспоминала Надежда Яковлевна, – вспыхивали ссоры, каждый пытался сжулить». К зависти Осипа, пишет она, победительницей всегда оказывалась Ахматова. «Как всякая женщина, она… жульничала… более умело и яростно». Впрочем, «жульничать» скоро перестанут – придумают другую игру: весело считать на улицах знакомых, кто старался не узнавать их и обходить за квартал. А ведь 1930-е годы только начинались еще, времена были пока что «вегетарианскими». Хотя, газеты уже объявили их обоих на всю страну «внутренними эмигрантами»[89]…
Приезжая в Ленинград, Мандельштам и в самом деле возвращался в детство, становясь, как точно подметит знакомая его, и надменным «принцем», и голым «нищим». Лысый ребенок, беззубое дитя, он, как мальчишка, был влюблен, к примеру, в радио: усаживался на кровать по-турецки и слушал, сияя, симфонии. Когда в каком-то общежитии увидел, что некто и слушает радио в наушниках, и одновременно читает, то сначала сдерживался, а потом выскочил из комнаты, возмущаясь: «Или читать, или слушать музыку!» Но чаще – беззаботно смеялся. Смеялся не как ребенок – «как младенец, – пишет Эмма Герштейн. – Раскрывал и закрывал свой беззубый рот, его прекрасные загнутые ресницы смежались, и из-под них ручьем текли слезы». И, представьте, довольно остроумно шутил. Когда к возвращению Горького на родину ленинградские писатели решили в его честь разыграть пьесу «На дне» и Федин предложил Мандельштаму принять участие в почетной затее, поэт, округлив глаза, наивно спросил: «А разве там есть роль сорокалетнего еврея?..»
Нет-нет, наш Вергилий не был ни ангелом, ни идеалом. Когда его как-то в вестибюле санатория окружили и попросили прочесть стихи, Мандельштам тут же «ядовито обратился к человеку… в форме летчика: “А если я попрошу вас сейчас полетать, как вы к этому отнесетесь?”…» И зло объяснил открывшим рты «любителям поэзии», что стихи для него – такая же работа, как управлять аэропланом. Не ангельски – наплевательски относился к чужим вещам, к не принадлежавшим ему книгам, из которых запросто мог вырывать страницы, что они с Надей звали между собой «топтать Москву». Мог, если допекали, крикнуть проходящему писателю: «Вот идет подлец N». Наконец, мог в гостях у той же Эммы Герштейн (редкой чистюли) забраться в ботинках на белоснежное покрывало и искренне не понимать, что тут такого…