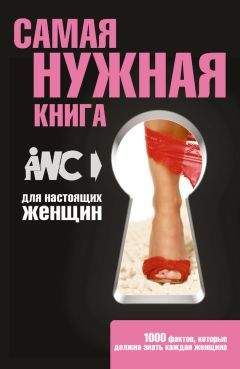Сол Беллоу - Герцог
— Нет, но я ничему не удивляюсь.
Мозес глядел на Джун. Лицо у нее опять помрачнело; что-то она хмурилась.
— Вы когда-нибудь подавали жалобу на Мозеса, а?
— Нет, — сказала Мади. — Жалобу я не подавала. — Она резко вдохнула. Что-то у нее было про запас.
— Сержант, — сказал Герцог, — я же говорил: жалобы не было. Спросите — хоть одну выплату я пропустил?
Маделин сказала: — Я отдала его фотографию в полицию Гайд-парка.
Она заходит слишком далеко. — Маделин! — предостерег он.
— Помолчите, Мозес, — сказал сержант. — Зачем вы это сделали, леди?
— Чтобы не околачивался возле дома. Пусть последят.
Герцог покачал головой, отчасти в укор самому себе. Сегодня он совершил ошибку в духе предыдущего этапа. Для нынешнего дня она нехарактерна. Но старый счет надо оплачивать. Когда ты пойдешь в ногу с самим собой!? — задал он себе вопрос. Когда настанет такой день?
— А он околачивался?
— Его не видели, но я абсолютно точно знаю, что околачивался. Он ревнив и вообще скандалист. У него ужасный характер.
— Однако жалобу по форме вы не подавали?
— Нет. Но, я полагаю, меня оградят от какого бы то ни было насилия?
Она резко это сказала, и Герцог видел, как, слушая, сержант по-новому глядел на нее, кажется, уясняя себе наконец весь ее сволочизм. Он взял со стола свои бен-франклиновские очечки с кругляшками-окулярами. — Никакого насилия не предвидится, леди.
Да, подумал Мозес, он начинает понимать, что к чему. — Я видел только одну пользу от этого револьвера: прижимать бумаги, — сказал он.
Ткнув пальцем в пули и прямо глядя ему в глаза, Маделин впервые обратилась к нему: — Одна предназначалась мне, да?
— Ты так считаешь? Откуда такие мысли, интересно? А кому предназначалась другая? — Он совершенно владел собой, голос был ровный. Он изо всех сил старался вытащить наружу затаившуюся Маделин — Маделин, какой он ее знал. Пока она не отрываясь смотрела на него, румянец сходил с лица и нос уже меньше дергался. Она вроде бы поняла, что должна следить за своим тиком и умерить ярость во взгляде. Все заметнее белело лицо, глаза сузились, застыли. Он был уверен, что правильно понимает их выражение. В них выражалось абсолютное желание его смерти. Это куда больше, чем заурядная ненависть. Это приговор к небытию, подумал он. Способен ли понять это сержант? — Так кому же, по-твоему, предназначался приснившийся тебе выстрел?
Она ничего не сказала ему, просто смотрела теми же глазами.
— На этом кончим, леди. Берите ребенка и ступайте.
— До свидания, Джун, — сказал Мозес. — Сейчас ты пойдешь домой. Папа скоро повидается с тобой. Ну, целуй сюда, в щеку. — Девочкины губы коснулись щеки. Потянувшись через материно плечо, Джун тронула его рукой. — Благослови тебя Бог. — И уже вслед поспешно уходившей Маделин добавил: — Я вернусь.
— Сейчас я кончу ваше дело, Мозес.
— Я должен внести залог? На какую сумму?
— Триста долларов. Только настоящих, а не вроде этих.
— Если можно, разрешите мне позвонить.
Сержант жестом велел ему взять десятицентовик из мелочи на столе, и Мозес между делом отметил, какое у него властное, полицейское лицо. Человек явно с примесью индейской крови — может, чироки или оседж; и один-другой ирландский предок. Бесстрастность изборожденного морщинами, вызолоченного лица со строгим носом и крупными губами — и величавое достоинство мельчайшей, волос к волосу, седой курчавости на голове. Его тяжелые персты указывали на телефонную будку.
Усталый, выпотрошенный, но вовсе не подавленный, Герцог набирал номер брата. Почему-то думалось, что он хорошо себя показал. Само собой, он остался верен себе — нажил новые неприятности на свою голову, и теперь еще Уилл должен внести залог. И все же тяжести на сердце не было — наоборот, он чувствовал почти что избавление. Возможно, он слишком устал, чтобы предаваться унынию. Скорее всего, так: метаболический сброс утомления (подобные психологические толкования ему нравились; приведенное здесь пожаловало из эссе Фрейда о скорби и меланхолии) на время развеял его, развлек.
— Слушаю.
— Можно попросить Уилла Герцога?
Оба сразу узнали друг друга по голосу.
— Моз! — сказал Уилл.
Герцог не мог совладать с чувствами, откликнувшимися на голос Уилла. Памятная интонация, памятное имя мигом всколыхнули их. Он любил Уилла, Хелен и даже Шуру, несмотря на его миллионы, делавшие его чужим. В тесноте металлической будки у него мгновенно вспотела шея.
— Где ты пропадал, Моз? Старуха вчера вечером звонила. Я потом глаз не сомкнул. Где ты сейчас?
— Эля, — назвал его Герцог домашним именем, — ты не беспокойся. Ничего страшного, но я в городе, на 11-й и Стейт-стрит.
— В главном полицейском управлении?
— Небольшое дорожное происшествие. Без жертв. Но меня держат под залог в триста долларов, а их у меня при себе нет.
— Какой разговор, Моз! Мы тебя с прошлого лета не видели. С ума все посходили. Я скоро буду.
Он ждал в камере еще с двумя. Один был пьян и спал в грязном исподнем. Другой был негритянский паренек, совсем юный, в дорогом бежевом костюме и коричневых туфлях из крокодиловой кожи. Герцог поздоровался с ним, но парень предпочел отмолчаться. Ушел в свои неприятности и увел глаза в сторону. Мозесу было жалко его. В ожидании он прислонился к решетке. Не его это сторона решетки, он это кожей чувствовал. Унитаз, голая металлическая скамья, мухи на потолке. Не по его грехам, считал Герцог, такая обстановка. Он тут мимоходом. На улицах, в американском обществе — вот где отбывает он свой срок. Он безразлично сел на скамью. Из Чикаго, думал он, надо уезжать немедленно и только тогда вернуться, когда он сможет быть полезным Джун, по-настоящему полезным. Хватит горячки, надрыва и театральщины с подглядыванием в окна; хватит аварий, обмороков, встреч «ты бьешь — он кричит» и очных ставок. Гул беды в коридорах и камерах, вонь в канцелярии, печать отверженности на лицах, за открывшейся дверью — судьба вот этого мертвецки спящего, залившего подштанники мочой, — имеющий глаза, ноздри, уши пусть слышит, обоняет и видит. Имеющий разум, сердце — пусть задумается.
Устроившись, чтобы не бередить боль в ребрах, Герцог даже умудрился набросать некоторые мысли. В них не было особого складу и уж тем более логики, они просто приходили ему в голову. Такая была система у Мозеса Е. Герцога, и он азартно записывал на колене: Грубый, несовершенный механизм гражданского мира. Что называется, каменный век. Если в основе общественного порядка лежит, по мысли Фрейда, Рохайма и пр., коллективное древнее преступление, когда группа братьев нападает на праотца, убивает и пожирает его, освобождаясь через это убийство и объединенная теперь пролитой кровью, то известный смысл есть в том, чтобы тюрьма сохраняла мрачную, архаическую атмосферу. Еще бы: дикая сила объединившихся братьев, солдат, насильников и т. д. Только это все метафора, не более. Я не могу смириться с мыслью, что мое затмение производно от этого глухого бессознательного мрака. От этой примитивной кровавой каши.
Мы можем сомневаться и отрицать, но заветная мечта человеческая состоит в том, что жизнь может исполниться смысла. Каким-нибудь непостижимым образом. Еще до смерти. Может совершиться не вопреки логике, а непостижимо. Пощаженный этими грубыми тюремщиками, ты получаешь последний шанс познать справедливость. Истину.
Дорогой Эдвиг, быстро записывал он. Вы отлично отработали гонорар, разъяснив мне, что неврозы можно квалифицировать по неспособности выдерживать двусмысленные ситуации. Я только что прочел в глазах Маделин очевидный приговор: «Трусу не жить!» Ее заболевание — самоочевиднейшее. Позвольте мне скромно признаться, что с двусмысленностями я теперь управляюсь гораздо лучше. Впрочем, рискну сказать, что меня пощадила главная двусмысленность, приводящая в отчаяние интеллектуалов, а именно: цивилизованные индивидуумы ненавидят и отрицают цивилизацию, которая только и делает возможным их существование. А по душе им некое воображаемое положение человека, которое они сами же измыслили и полагают единственно правильным — единственной реальностью человека. Как это странно! Однако самая культурная, отборная и разумная часть общества зачастую и самая неблагодарная. В неблагодарности, впрочем, ее общественное назначение. Вот вам еще одна двусмысленность! Дорогая Рамона! Я очень обязан тебе и прекрасно это понимаю. Пока я, наверно, не вернусь сейчас в Нью-Йорк, но связь буду поддерживать. Господи! Смилуйся! Господи Боже! Рахэм олеину, мелех маймид[242]. Царь смерти и живота!..
Когда они выходили из полицейского управления, брат заметил ему: — Ты вроде бы не очень расстроен.
— Да, Уилл.
В небе над тротуаром и теплым вечерним сумраком пролегли золотистые шлейфы реактивных самолетов, и к северу от 12-й улицы уже сумбурно зыбились огни кабаков, бледное месиво, в котором увязала улица.