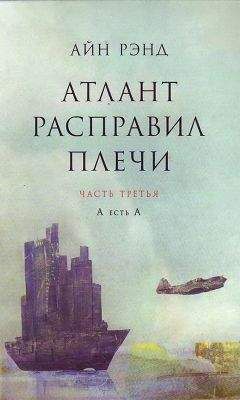Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 8 2006)
И вот, возвращаясь к сегодняшнему дню, к полкам книжных магазинов, которые заполняют все новые томы и томы, хочется возопить — где же оно, это состояние “открытия” мира, видение мира как “чуда”? Где трагическое — эти поэтические потерянность с беспомощностью — и их самостоятельное преодоление в “ритме, правящем человеческой жизнью”? Наоборот, километры насилия в современном искусстве — средство социальной анестезии, способ вытеснения трагического.
Впрочем, дух дышит, где хочет. Все эти качества есть в прозе Ахутина, который как наследник мировой философской традиции “хранит воздух свободы и одаряет им”, обращает читателя к его человеческому существу, вырывает его из включенности в круговорот мифа современности и долгие часы удерживает его наедине с вопросом о бытии, с самим бытием, наедине с чудесным, наедине с самим собой. “Мы живы, пока сохраняем способность перекликаться через толщу времен и проволоки границ, перестукиваться из одной камеры „здесь-теперь” в другую. Из этих-то окликаний и перестуков и складываются философия, поэзия, музыка”.
Н. А. Железнова. Учение Кундакунды в философско-религиозной традиции джайнизма. М., Издательская фирма “Восточная литература” РАН, 2005, 344 стр.
Спасибо отечественным востоковедам и научным издательствам, продолжающим из года в год радовать нас как обстоятельными исследованиями основных религиозно-философских систем Востока, так и тщательно комментированными переводами с языков оригиналов важнейших памятников — редкими, но заметными ориентирами в беспредельном море сомнительной литературы от западных популяризаторов или, того хуже, идеологов всяческих культов или сект, на свой лад трактующих традиционные учения и их сакральные тексты.
Среди религий Индии джайнизму у нас повезло меньше всего. Пара монографий, давно ставших раритетными, да в последнее время несколько публикаций текстов в научных сборниках. Между тем джайнов можно считать исторически ответственными за такие распространенные в современной культуре явления, как вегетарианство и борьба за права животных и растений. С самого начала создания этого учения Махавирой, в VI в до н. э. его основоположением являлась “ахимса” — непричинение вреда живым существам в делах и помыслах — первый из “великих обетов” джайнского подвижника. И хотя не джайны это придумали, считается, что именно их многовековая неустанная проповедь “невреждения” оказала влияние на другие индийские религиозные направления, включая брахманизм, и на все общество, так что сейчас в день рождения Махавиры (праздник Махавира джаянти), как и в день рождения Ганди, в Индии не работают скотобойни.
В книге Н. А. Железновой опубликованы пять канонических религиозно-философских джайнских трактатов. Четыре из них традиционно атрибутируются учителю Кундакунде, которого в традиции одного из двух направлений этой религии, дигамбаров (“одетых пространством”, то есть ничем, в отличие от шветамбаров — “одетых в белое”, то есть в белые одежды), ставят в один ряд с основоположником джайнизма. Жаль, что нет комментариев, но их роль выполняет проведенный на основе этих текстов подробный анализ философской доктрины Кундакунды, который, как пишет автор, “дает возможность представить целостную систему основных понятий джайнской онтологии и сотериологии и показать наиболее характерные черты общеджайнского учения о духовной субстанции, о способах и целях ее самореализации”.
Питер Брук. Нити времени. М., “Артист. Режиссер. Театр”, 2005, 384 стр.
Не знаю, хотел ли Питер Брук написать книгу воспоминаний не хуже, чем у Ингмара Бергмана, но по “магическому” очарованию, по искренности и психологичности, по насыщенности биографическим материалом и размышлениями о театре и творчестве, по искусности, с какой сплетаются временные планы повествования, “Нити времени” ни в чем не уступят знаменитой “Латерна магика”. На моей домашней полке стоять им рядом. С первых же страниц обнаружилась биографическая параллель — влюбленность в театр и кино буквально с первого детского взгляда. У обоих игрушечные театры. И если Бергман рассказывает, как выменял кинопроектор у своего брата за сто солдатиков, то Брук в свою очередь пишет: “В детстве у меня был предмет, на который я молился… Предметом поклонения был кинопроектор”.
Похоже, что на склоне лет и у самого режиссера вызывает некоторое удивление его ранняя карьера, энергия, благодаря которой он, не получивший систематического театрального образования и “целиком” полагавшийся на “чувство и интуицию”, начинавший со студенческих спектаклей, уже в двадцать два года стал “режиссером постановки” в “Ковент-Гарден”, причем “эта должность, по-моему, была придумана специально для меня, но впоследствии так и осталась в штатном расписании”. На небольшом пространстве книги Брук сплетает немало рассказов о жизненных перипетиях, о театральных постановках, о работе с Лоренсом Оливье и Полом Скофилдом, с Сальвадором Дали и Жаном Жене и о всевозможных режиссерских поисках и новациях — ведь всегда было стремление “делать что-то другое”. Отдельная нить памяти — начатые в детстве неутомимые “поиски чудесного”, где будет и знакомство с Алистером Кроули, которого режиссер пригласит на свою постановку “Фауста” консультантом по магии (!); и ученичество у последователей Георгия Гурджиева, результатом чего станет фильм “Встречи с замечательными людьми”; и долгие путешествия с экспериментальной труппой в поисках “святых мест” и “следов забытых традиций” по Афганистану, Африке, Индии, завершившиеся грандиозной “Махабхаратой” (искренняя признательность нашему ТВ, что умудрилось показать этот некоммерческий шедевр)…
Вот один из неоднозначных итогов этого длиною в жизнь и еще не оконченного поиска “чего-то постоянно ускользающего”: “Я никогда не видел чуда (!), но убедился, что замечательные мужчины и женщины существуют, их отличает та мера сил, с которой они работали над собою всю жизнь”.
Л. М. Видгоф. Москва Мандельштама. Книга-экскурсия. М., ОГИ, 2006, 480 стр.
Эта увлекательно и с любовью написанная книга послужит хорошим введением в мир Мандельштама для начинающих, а знатоку доставит радость открытий и удовольствие от нового взгляда на известное.
Отталкиваясь от самого простого, от житейско-бытового, от адресов, от квартир, от планов комнат, порой буквально “от печки”, оттуда, где стояли диван или стол, автор, профессиональный экскурсовод, создает чуть ли не физически ощутимую картину происходившего. Места и адреса населяются персонажами (вот уж прямо противоположно мандельштамовскому: “...у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса”), слышны голоса знакомых, друзей-поэтов, отзывы слушателей. Кажется, ни одно московское упоминание не оставлено без внимания. И звучат стихи, в которых прослеживаются многочисленные связи с местами и обстоятельствами и скрытые аллюзии; к месту оказывается и разбор фонетических особенностей мандельштамовского стиха, обсуждение разночтений и вариантов. И конечно, как во время всякого путешествия, дело не обходится без примечательных находок. Как, например, в строках “Усмирен мужской опасный норов, / Не звучит утопленница-речь” из стихотворения, посвященного Марии Петровых, “мастерице виноватых взоров”, автор обнаруживает намек на “редакторскую статью” из ее детского самодельного журнала 1917 года, которой так восхищался Мандельштам: “Женщины! Бросайте детей на руки их нянькам и идите помогать мужьям усмирять взбунтовавшихся рабочих. Но как же усмирять их? Ведь воевать мы не можем. Воевать не надо — надо говорить с ними тихо, упоминая в речи Бога и несчастья энтеллигенции”.
Инна Лиснянская. Хвастунья. Воспоминательная проза. М., “Вагриус”, 2006, 448 стр.
Книга прозы поэта читается как одно произведение, в которое вошли роман на автобиографической основе и, в качестве отдельных глав, дополняющие его рассказы о годах дружбы с Андреем Тарковским и Булатом Окуджавой.
“Хвастунья” — это именно роман (автор уточняет: “монороман”) — замаскированная под живой поток воспоминаний сказовая проза с вполне вероятной дистанцией между автором и рассказчицей. Удивительное художественное открытие Лиснянской в том, что она пишет как бы о себе, “хвастунье”, так, как если бы о ней писал другой человек, как, скажем, Лесков написал про свою “воительницу”. И вот перед нами вовсе не “биография творца”, чья жизнь предстает движением от одного достижения к другому, как это обычно бывает в мемуарах знаменитостей, а пусть необычная, но судьба такого же, как и все, простого человека со всеми (впрочем, весьма беспощадно осознаваемыми) слабостями и недостатками. Увлеченный и увлекающий, перескакивающий с одного на другое, перебивающий и закольцовывающий себя наподобие историй “Тысячи и одной ночи” монолог обо всем, что случилось на веку, — со всем этим советским, то коммунальным, то переездным, то бездомным по чужим углам бытом, всевозможными и невозможными соседями и знакомыми, попытками учебы и работы, происшествиями и разговорами. Бытом и, конечно, поэзией — данной как естество жизни, ее воздух. Поэзия, этот удивительный, пришедший с ранними детскими молитвами дар, — пожалуй, единственное, чем не хвастается рассказчица, хотя и не прочь рассказывать прелюбопытные, а то и нелицеприятные окололитературные истории.