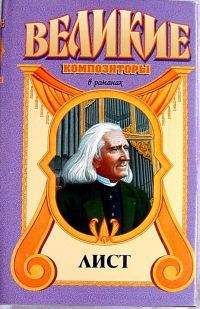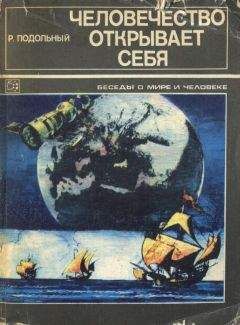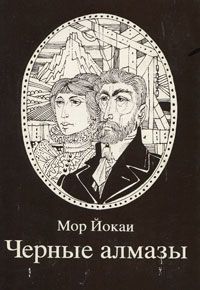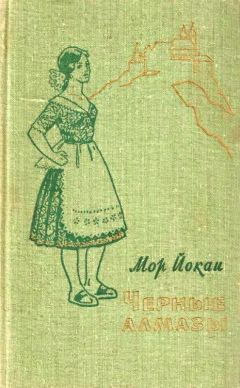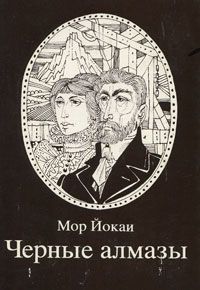Дёрдь Конрад - Соучастник
Некогда коммунист, я стал антиполитиком; мне уже не нужны ни власть, ни антивласть. Продумывая свои проигранные партии, я не склонен себя корить; но все-таки странно: вместо того, что есть, я чаще всего предлагал что-то такое, о чем не знал почти ничего. Товар мой мне был знаком хуже, чем продавцу кота в мешке: тот хотя бы видел кота, прежде чем засунул его в мешок. До сих пор все, что я предпринимал — в защиту режима или против него, — подвергало риску жизнь других людей. Хорошо, что я уже ни солдат, ни революционер, ни политзэк, ни министр, ни ученый-обществовед, ни активист оппозиции, который с гордостью высказывает в Будапеште то, что в Вене скучно было бы и написать. Режим этот — прочен, у меня хватит времени согреть в нем место себе, я — тоже существо прочное. Кое-как я выкарабкался из своих кривд, но не обрел своей правды. Не знаю в своей среде ни героев, ни гениев, ни святых; мы — неудавшиеся эксперименты: с теми, кто это о себе знает, мне довольно легко, они более вежливы, да и юмор у них лучше. Я испробовал все — и не хочу ничего начинать заново, я один, и пусть происходит то, что еще может произойти. Эту сигарету можно загасить, этот железнодорожный билет можно выбросить; я не хочу, чтобы вы оказались в моей шкуре. Я и на товарищей своих смотрю, как на деревья: жизнь их выросла ровно на столько же. Я наблюдаю, как старуха моет окно, разговаривает со своей кошкой, следит за облаками; в маленькой своей квартирке она управляется, как может; кто я такой, чтобы судить ее? Хорошо, что среди моих друзей никто не думает так же, как я. Каждый, пока состарится, медленным и упорным трудом соорудит себе какую-никакую религию.
Что за жалкая, унылая жизнь, государственная болезнь, скука! Как легко состариться, смирившись: мол, все равно ничего не получится, — и убогие свои обиды лицемерно возведя в ранг мировых скорбей! О, подходящая стратегия у нас найдется всегда! Мы не ленимся советоваться со всемирной историей: врать нынче утром или, может, не надо? Сколько сентиментальных объяснений существует насчет разумных границ порядочности! Значительную часть своего времени ты размышляешь над тем, над чем и размышлять-то нет смысла: государство тем лучше, чем реже ты должен его замечать. Не замечать свое государство у тебя все равно не получится; оно — как низкая притолока: попробуешь распрямиться — и тут же стукнешься лбом. Вы с ним неизлечимо больны друг другом: оно — как смертельно надоевшая жена, которая не дает ни на миг забыть о себе, ей страшно, что, стоит ей закрыть рот, как ее и самой не станет. Государство постоянно норовит встать у тебя на пути, постоянно жужжит в уши, всей массой наваливается на тебя, а ты, лицом к лицу с государством, внутри государства, внутри его душного лона, борясь с тошнотой, произносишь, словно спасительную истину, двухсотлетние прописи либерализма.
Мирные времена. У стен — чуткие уши, они фиксируют даже твои любовные вздохи. Свои мнения ты спокойно можешь высказывать дома, по телефону, в письмах: кому надо, те и так их знают. Если тебе по секрету нужно сообщить что-нибудь жене, ты пишешь записку и, после того как жена прочтет, рвешь бумажку на мелкие лоскутки. Подобная переписка — даже когда вы сидите, обнявшись, — придает общению вкус и интимность студенческих, гимназических любовей. Телевизионную камеру в твоем кабинете еще не установили; все написанное ты прячешь в нескольких тайниках вне квартиры. Ты не спрашиваешь друга, от кого он слышал то, что тебе сообщает, кто ему дал такую-то книгу или рукопись. Собираясь поделиться с ним информацией, ты зовешь его прогуляться в лес или на шумную улицу. Когда кто-то задает тебе странные вопросы или делает слишком смелые предложения, ты без лишних разговоров выставляешь его за дверь. Садясь за руль, ты не пьешь ни капли спиртного; остерегаешься любых нарушений общественного порядка: такое ухарство — не для тебя. Повседневная дисциплина; ничего, можно привыкнуть. Провожая гостей, замечаешь: в машине на противоположной стороне улицы светятся угольки горящих сигарет.
33Ты можешь эмигрировать — и со все более отстраненной улыбкой следить издали за патетической суетой восточноевропейской интеллигенции. Читать эзоповы обороты в письмах друзей, насмешливо выслушивать конспиративные их сообщения; как правило, они чего-нибудь у тебя просят. Толковать о своих трудностях новым друзьям, которые понимают все это не намного лучше, чем если бы ты жаловался, как трудно добывать огонь трением друг о друга двух камешков. Тебе бы стали немного скучны судьбоносные проблемы, волнующие знакомых на родине: получат они загранпаспорт или не получат, кто кому написал апелляцию, кто у кого получил аудиенцию? Ты с усмешкой вспоминал бы о публичной роли слухов: ты ведь и сам привык производить селекцию и, обдумав долетевшую до тебя устную информацию, решать, что с ней делать: переиначить, или проигнорировать, или просто передать дальше. Те, кто замешан, те, кто не замешан, — кастрюля одна, и суп в ней будет из всех один. Никто вокруг не стреляет, никто не митингует, все читают одни и те же книги, встречаются на одних и тех же концертах и посольских приемах, но есть чистые, получистые и нечистые.
Молодежь требует для себя места под солнцем, дерзит пожилым, пожилые сердятся и обижаются. Книгу Н., помусолив несколько лет, все же издали; не так уж она и хороша, эта книга. О. не лишили его поста, а П., его друга, лишили; что бы это могло значить? Кого и как часто поминает пресса на Западе, кто пишет запрещенные вещи под своим именем, кто пишет запрещенные вещи под псевдонимом, у кого просят интервью, кто дает, кто не дает, почему? Ты работаешь над критической теорией, он — над теоретической критикой, ты каждый год подписываешь какое-ни-будь заявление, он обещает, но в последний момент растворяется, ты приобрел для летнего отдыха глинобитный домик, ему хватило на водяную мельницу с кирпичными стенами, ты провел лето на побережье в Далмации, он — на Корсике, ты на процессе сказал только то, что они и так знают, он, привлеченный свидетелем, наговорил такого, о чем они и не подозревали, летят оскорбления, в ответ летит клевета, возникают и распадаются союзы, заводятся судебные дела, власти удовлетворяются прокурорским предупреждением, мер пока принимать не будут, рукописи блуждают, исчезают, просачиваются сквозь расставленные полицией сети, в конце концов появляются на задних полках западных книжных лавок, на две-три недели, не больше, рынок и так переполнен.
Приезжают, с видом посвященных, западные исследователи Восточной Европы, агенты, или двойные агенты, или просто университетские карьеристы, сбежавшие от жены и от шефа, восторженные энтузиасты, обожающие Восточную Европу за ее человеческое тепло, брезгливые наблюдатели, которым это тепло кажется слишком уж провонявшим плотью, самоуверенные знатоки, которых раздражает, что эти плохо информированные и много о себе воображающие восточноевропейские интеллигенты возомнили, будто им о себе что-то известно, хотя они прочли всего лишь малую часть советологической литературы. Если нескольких из этих фигляров посадят, не страшно, зато их тогда чаще станут приглашать на конференции, давать больше денег на исследовательские программы, можно будет купить другую машину. Почему бы и не послушать, как было бы, если бы было не так, как есть; с другой стороны, почему бы, собственно, и не быть так, как есть? Место, где расположен город, великолепно, кухня здесь вкусная, счета вычтут из налога.
Этот эмигрирует, тот получил загранпаспорт на долгий срок, пробудет на Западе года два, а то и все пять, а может, не вернется вообще. Он устраивает отвальную, в квартиру набивается человек тридцать, завтра квартира будет стоять пустая. В углу два чемодана, говорить в общем-то не о чем. Он одной ногой уже там, мы еще зарыты по пояс здесь. Юмор истощается; мы улыбаемся и грустим. Незаменимых нет, кто-нибудь обязательно займет его место, мы будем его вспоминать, он, конечно, будет писать, но все реже и реже. Нам будет казаться, то, что мы пишем, ему скучно, хотя именно этой скуки ему и будет недоставать. У него же появится ощущение, будто все, что с ним происходит, происходит не совсем с ним, а потому едва ли об этом можно написать. Нам хочется оттолкнуть от себя свое окружение: слишком оно плотное; он хочет приблизиться к своему: слишком оно неосязаемое, почти воздушное. Глубоководную рыбу, попавшую в среду с более слабым давлением, распирает внутреннее напряжение. Человек же пытается выяснить, кто он и что он, но стесняется своего удивления перед бывшими товарищами: ишь, мол, с жиру бесится.
На другой день мы, все тридцать, грустные демонстранты солидарности, едем в аэропорт. Ни у кого нет такого сопровождения, как у нашего уезжающего товарища; да еще за нами тянется шлейф: за нашим кортежем — их кортеж, люди в кожанках, с поросячьими глазами; кроме слежки, бог и государство не доверили им более высокой миссии. Если бы они просто фотографировали нас, это бы меньше бросалось в глаза, чем та нарочитая непринужденность, с которой они щелкают перед нами своими массивными зажигалками. Встав за колонну, они ведут учет, кто присутствует: ведь те, кто приехал, лишний раз продемонстрировали свою позицию. А тот, кто не захотел ее демонстрировать, попрощался заранее, не желая подчеркивать свою принадлежность к нашей группе: тут и проявление чистой симпатии носит какой-то антигосударственный акцент. Мы уже знаем в лицо этих людей, которые, если посмотришь им в глаза, торопливо отводят взгляд. Куда бы ни сдвинулась на террасе аэропорта наша группа, они, как трудолюбивые спутники, тянутся роем за нами. Честно говоря, староваты мы для этого молодежного приключенческого сюжета. Телефонный звонок в транзитный зал ожидания: нет, таможенный досмотр еще не прошли. Спустя какое-то время еще звонок: барышня на телефоне тоже не может понять, почему соблюдение обычных формальностей тянется так долго. Наконец они выходят; да, все мыслимые осмотры и досмотры — кроме разве что обследования простаты — произведены. Последний прощальный жест с трапа самолета; интересно, какую победу обещают поднятые буквой V пальцы? Прощание взглядом: спокойной ночи.