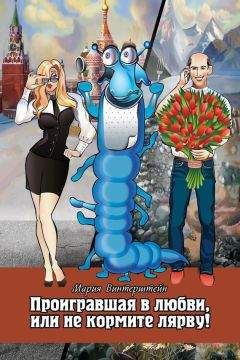Уильям Стайрон - Уйди во тьму
— Зайка, что ты с ней сделал? Я могла окочуриться в то утро, когда она явилась в Вильямсбург с действительно ласковой улыбкой на лице. Ты что, напихал ее гормонами или чем-то? Налей-ка мне еще, зайка. Я…
Она сжала ему ногу. Издали донесся звон церковного колокола, пробившего четверть часа, и Лофтис покорно налил себе и ей, а снизу донеслось высокомерное, неразличимое бормотание миссис Фаунтлерой Мэйо, словно пускаемые рыбой пузырьки, лопающиеся на поверхности пруда. Духи Пейтон вдруг ударили сладостью ему в нос — с бесспорной острой сладостью неведомых ему экзотических цветов, гибельных растений в джунглях и пленительных; у него все немного поплыло перед глазами, когда она нависла над ним, но было ли это только от ее духов, а не от волнения, от того, от жаркого в комнате воздуха? Он поднялся и шире открыл окно — миссис Мэйо увидела его. Вся в патрицианском белом, в тонкой шерсти, она подняла руку в перчатке и помахала платочком, кусочком кружев.
— А вон счастливый отец! — воскликнула она, и все, кто был внизу, с улыбкой подняли вверх глаза.
Лофтис шагнул назад.
— Детка, все это надо убрать.
— Что ты с ней сделал, зайка? Я просто не могла поверить тому, что видела и слышала.
Это все виски. Тут не было сомнения: нормированное ядовитое пойло, застлавшее пылью его глаза, возбудившее боль в желудке. Это все равно что выпить кислоты. Он поставил стакан на столик, сбросив мошку с краешка.
— Не знаю, детка, — сказал он, с улыбкой глядя на нее, — не знаю. Все дело, видишь ли, в тебе. Теперь я хочу сказать… — Это было трудно. — Я считаю, что она никогда не знала, как она любит тебя, пока… ох, да ну его к черту, ты же знаешь, детка, как она всегда все усложняла. Не знаю, наверное, она тоже поняла, что, дойдя до точки, когда ты оказываешься на мели и у тебя ничего не осталось, ты обращаешься к тому, с чего начала, и начинаешь снова…
Она больше не слушала его — со стаканом в руке она встала и подошла к окну, посмотрела вниз, на гостей. Как он вообще мог это ей объяснить — убедительно и не запутанно? Как мог он объяснить этому ребенку реальность жизни, которую сам с трудом понимал: что такое любовь, держащаяся на тончайшем шепоте музыки, слабо слышимом лишь случайно, в те минуты, когда память заливала их в сознание, как бурун — рассыпающиеся камни; любовь, чьи носители могут находиться на противоположных краях Вселенной и их всегда притягивала друг к другу некая сила, которую он никогда не сможет определить, неосязаемый тонкий музыкальный отрывок, утраченное воспоминание, объятия или заурядная память об ординарном событии, но в котором они оба принимали участие, — все это и все гардении и розы, исчезнувшие запахи, носившиеся в воздухе много лет назад в зеленом, как трава, свете другой зари? Романтический старый осел вроде него — каким считает его, возможно, Пейтон — никогда не сможет сказать об этом ничего определенного, — он может лишь чувствовать это и, уж конечно, не может объяснить это ребенку, которому, он надеется, не придется самому с этим сталкиваться.
А она повернулась от окна к нему: она даже и не слышала первую часть того, что он говорил. Стакан ее был пуст; в беспокойных глазах, казалось, не было ни тревоги, ни возбуждения, а просто беспокойство, и она вдруг слегка несчастным, испугавшим его голосом произнесла:
— Папа, пожалуйста, повремени сегодня с этим. Пожалуйста…
— Но, детка, это же была не моя мысль…
— Нет, я не про виски. Я хочу сказать… ох, послушай, зайка, ты — милый, и я люблю тебя, но, пожалуйста, откажись сегодня от всех сантиментов. Мне нравится быть снова здесь — в известной мере, — добавила она задумчивым тоном, — когда все снова стараются быть милыми, но я чувствую, что ты так всем этим возбужден, что готов задушить меня. Пожалуйста, не души меня, — сказала она раздраженно, тряхнув головой, — не души меня, зайка! Я не делала тебе одолжения, возвращаясь сюда, — это мне сделано одолжение. Я достаточно пошаталась. Ты думаешь, мне нравилось быть так называемой дикой стервозой, какой — я уверена — все считали меня? Одна девчонка из одной со мной школы, которую я встретила в Нью-Йорке, была в каникулы здесь, и она сказала, что все тут считают: меня выгнали из школы. Ну откуда берутся такие слухи?
— Я не знаю… детка, не надо сейчас. Это было…
— Сплетни маленького городка — вот что это было. Отчего люди старшего возраста любят — просто обожают — считать, что молодежь одержима жаждой самоуничтожения? Они просто обожают сидеть в кружочке на своих толстых задницах и выдумывать какие-то новые моральные извращения, которыми занимается молодое поколение.
— Детка…
— Не ты, зайка. — Она раздраженно взметнула руки в стороны и вниз, выплеснув при этом несколько капель из своего стакана. — Я имею в виду не тебя. Ты любил бы меня до полусмерти, если б мог. Но неужели ты не понимаешь, неужели не понимаешь, зайка? Я возвращаюсь сюда ласковая и деликатная, стараясь как можно лучше играть роль доброй милой девушки, блудной дочери, вернувшейся домой, назад в семью, по прихоти родителей, поняв ошибочность избранного ею пути. Ну я ведь неплохо это сыграла, верно? Целуя мать, когда она целует меня, делая вид, что все забыто. Неужели ты не понимаешь, зайка, что у меня свои причины для возвращения домой? Мне захотелось стать нормальной. Быть как все. Эти старики не поверят, что есть дети, которые просто закидывают назад голову и воют, которые просто умирают, желая сказать: «Вот теперь мой бунт окончен, я хочу быть дома, а дома — это там, где меня хотят видеть папа и мама». Вернуться не в позе: «Возьмите меня назад, я была так не права», — потому что, зайка, уж можешь мне поверить, большинство детей нынче не плохие и не злоумышленники, у них просто нет в жизни цели, и они не потерянные, они куда больше бесцельны, чем ты когда-либо был, — так не в такой позе, а со своего рода вдруг возникшей на короткое время любовью, признав тех, кто кормил твой маленький ротик младенчика, и менял твои пеленки, и платил все время за тебя. Это глупо звучит, зайка? Вот как им хочется поступить, вот как я хотела поступить и пыталась, но почему-то сегодня все это кажется мне липой. Не знаю почему. Я лгала. Я вовсе не взволнована. Может потому, что у меня слишком много горьких воспоминаний.
Она помолчала и посмотрела на него — глаза ее были невероятно печальны, — и он подошел к ней, представляя себе, как рушится этот многообещавший день, и попытался ее обнять.
— Детка…
— Не надо, — сказала она. — Не надо, зайка. Извини. — Она удержала его на расстоянии, даже не взглянув на него, потому что она смотрела вниз на лужайку, на гостей, двигавшихся к дому вместе, молча, но с головокружительной поспешностью, словно участники пикника перед бурей, — она удержала его на расстоянии не только своим молчанием, а словно воздвигнув между ними завесу в виде каменной стены, затем мягко произнесла: — Извини, зайка. — И подняла на него глаза. — Не могу сообразить, где начинается правда. Мать. Она такая лживая мошенница. Ты посмотри на этот цирк. Изображает, будто у нас такая счастливая семья. Ох, мне так жаль всех нас. Если бы только у нее была душа, а у тебя — немного мужества… А теперь, — сказала она, хватая его за рукав, — пошли вниз, хороший мой. Я ради тебя уж буду как следует держаться.
А он словно прирос к ковру — стоял и хотел навечно упасть тут в обморок. Его словно избили до полусмерти дубиной — не столько этими откровениями, сказал он себе, опустошая успокоительный стакан, сколько в силу неизбежности.
— О’кей, детка, — сказал он.
Обряд прошел в наилучшем виде, хотя гостиная была переполнена, так что некоторые даже немного вспотели. В мирные времена, как теперь, люди часто венчаются в отеле, или в ратуше, или в увитом лозами коттедже за границей штата, где вас ждет пожилой мировой судья в закапанном супом жилете, — там можно обвенчаться всего за пять долларов. Люди, которым приятно считать себя верующими, но которые на самом деле не верят, венчаются в отеле, уставленном пальмами и папоротниками, в присутствии дружелюбного старого судьи, и слушают чтение восточной поэмы под названием «Пророк». Большинству же людей все равно, как пожениться, — за исключением епископалианцев, которые часто хотят, чтобы это происходило дома, и всегда питают пристрастие к тому, чтобы служба была поэтической. В этой службе вообще немало поэтики, и человек наблюдательный, находящийся на данной свадьбе и любящий эстетику, был бы несколько изумлен тем, как вел службу Кэри. Он не был актером и, будучи по натуре человеком сдержанным, предпочитал предоставлять людям, облеченным большей властью, известным северным проповедникам, служащим в своих мраморных и соборных церквях, устраивать спектакли, — он был не из тех, кто становится епископом, но в своем мягком и жалобном тоне он хорошо пел литургию и мог расцветить христианскую поэзию, и так достаточно богатую по своей ткани, изящными добавками. Раздвижной стол был накрыт алтарным покровом, и там стояли свечи, и когда он читал положенное по службе, мерцающий свет отражался в его очках огненными кольцами, и он был похож — со своими пухлыми щеками, маленьким закругленным подбородком и глубокой морщиной, которая шла от носа к поджатому бутоноподобному рту, — на сострадающую брюнетку-сову.