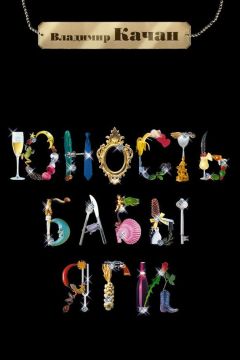Владимир Качан - Юность Бабы-Яги
– Не вопрос, – ответил Павел Сергеевич, – и пока пили кофе, принесенный секретаршей Клавой, пока договаривались с влиятельным в медицинских кругах Борисенко о завтрашнем обследовании Саши в глазной клинике лучшими врачами, – билет на ближайший рейс был заказан и уже через час Саше нужно было быть в аэропорту на регистрации. Суховато, но уже без враждебности Саша попрощался с папой, и они с Викторией тронулись в аэропорт.
Ну, что, друзья мои, сказать про ижевский аэропорт и прощание в нем. Грустно все это, хотя намерение проститься легко и беспечально – было. Прощание, пусть даже ненадолго – скверная штука, так как люди не знают, как правило, что сказать перед тем, как уйти. Просятся на язык дежурные ласковые слова, но каждый честный провожающий и провожаемый в ту же секунду, когда готов их произнести, понимает, что оно – не то, что это нечестно и мало, что всякая фраза сейчас – лишь плод природного оптимизма, который протестует против грусти вообще и минорного расставания в частности.
– Ну, пока («пока», это, стало быть, не насовсем).
– Пока.
– Скоро увидимся, – говорил Саша, будучи не вполне уверенным в том, что говорит. Оттого и было ему почти стыдно.
– Конечно. А как же, – отвечала Вита с улыбкой понимания.
– Нет, правда, ты ведь приедешь ко мне в Москву?
– Саша, милый, не суетись, не надо. Ты лечись там спокойно, выздоравливай… А потом разберись в себе… И только потом приглашай… Или не приглашай…
– А чего мне разбираться-то? Я и сейчас уверен, что скоро захочу тебя увидеть, позвонить.
– А я – нет. Москва, знаешь, что с людьми делает. Засосет, закрутит снова. И может так получиться…
– Да что может получиться! – слишком горячо возражал Шурец. – Я знаю, что есть! Сейчас есть. То, что я сейчас чувствую…
– Благодарность, – с не слишком веселым лукавством произнесла королева ижевской красоты, обнаруживая при этом нетипичные в этих краях ум и интуицию.
Ну, скажите, чего еще было надо нашему герою? Чего?! Влюбленная в него красавица, верный самоотверженный человек, понимающий к тому же его стихи, да еще и умница! А еще, невзирая на всепобедительную красоту, обаяние и даже умеренную свободу поведения в постели, – стопроцентно порядочная девушка, не разучившаяся смущаться и краснеть! Ну, чего еще надо-то?! Что за идиотская привычка у всех мужчин во все века – глухо вскрикивает автор не в первый раз – страдать по самовлюбленным девицам, которые их оставляют! Или вот-вот готовы оставить, и потому соответственно себя ведут. Более того, – принимать вот эти свои переживания за любовь и, как следствие, – отождествлять любовь с болезнью, с болью.
Древний медик и философ Авиценна, абсолютно не шутя, формулировал любовь, как «навязчивое помышление черно-желчного характера, вызываемое постоянным осмыслением и переосмыслением поведения и слов некоего лица противоположного пола». Ах, почему она так сказала? А что она имела в виду? И я тоже так неудачно ответил, надо бы вот этак… Ах, почему она так холодно, без радости совершенно, а сухо, деловито поздоровалась по телефону? Вроде как спешила куда-то… А куда? И почему не сказала, куда так спешит? К кому? Неужели?! И т. д. и т. д. Получается действительно «навязчивое помышление черно-желчного характера» и выходит, что Авиценна прав? Или же любовь – это что-то иное? Может, все-таки бескорыстная отдача себя другому человеку. Принесение себя в дар. Подарок, за который не ждут ни «спасибо», ни ответного подарка, иными словами – чувство, лишенное в идеале всякого эгоизма. И в таком случае любовь – твое сугубо личное дело, твое служение, твоя забота, потребность делать ему (или ей) добро, доставлять удовольствие, стараться, чтобы ей (или ему) было хорошо. И все! Надо уважать саму любовь, а значит, и свою тоже воспринимать как Божий дар, а не как несчастье. А жажда непременной взаимности – это уже не бескорыстная отдача себя, а ожидание процентов со своего чувственного вклада. Стало быть, и ревность – не что иное, как яростный или вялотекущий (в зависимости от темперамента) гнев по поводу того, что твой вклад кто-то стырил и им беспардонно воспользовался.
Прямым воплощением вот такой бескорыстной, напрочь лишенной эгоизма, а значит, очищенной от всех примесей (невзаимности, ревности и т. д.) любви и была Виктория, прощавшаяся с Сашей в ижевском аэропорту. Ей и в самом деле не нужно было от него ни-че-го! Надежда? Да была, как же совсем без надежды? На то, что он посмотрит на все происшедшее и на нее тоже – со стороны и тогда… ну хотя бы просто заскучает по ней. И, быть может, помимо благодарности, почувствует еще что-то. И тогда – «перепишите письмо 24 раза и будет вам счастье».
Но речь идет всего лишь о надежде, маленьком таком огоньке в закоулках подсознания. Ей было достаточно того, что между ними было, она ни на что не рассчитывала дальше и была готова даже к тому, что ее и вовсе забудут. Это не объяснялось каким-нибудь специфическим свойством ее сумрачной натуры, нет. Она, как мы знаем, не была ни пессимисткой, ни поклонницей депрессии; она была, как сама о себе думала, трезвомыслящей девушкой, которая на всякий случай была готова к худшему, а в нашу «эпоху перемен» – тем более. Ну, а уж если, вопреки предположениям, случится лучшее, – что ж, она будет совсем не против. По этой же причине она себя предпочитала недооценивать, что было фантастической скромностью при ее данных.
Что же касается Саши, то он попросту не мог поступить решительно, не в состоянии был справедливо оценить идеальную для него невесту, стоявшую сейчас перед ним, которую взять бы сейчас за руку, подвести к кассе, купить ей билет до Москвы и вместе без оглядки улететь. Кто-то умный сказал: «Жизнь настолько коротка, что надо жить решительно». Саша не был знаком с этим мудрым человеком и фразы этой не знал. Он и впрямь не мог разобраться сейчас в своих чувствах. Слишком чистая, бесхитростная любовь порядочной девушки? Мама родная! Как скучно! Нам грязи подавай! И чтобы нас помучили. Тогда еще и стихи пойдут. И чтобы еще препятствия были, и посложнее. Безвыходные ситуации тоже подойдут, это любимое лакомство русских поэтов – невозможность соединения и прочее. А тут все так просто и ясно, что как-то выбивает из седла своей простотой и ясностью. Привычки-то другие.
И Саша стоял, не зная, что сказать и как уже уйти на паспортный контроль – легко и без мокрого снега на сердце. Он, в сущности, уже весь был там, в Москве, его ждали дом и друзья, которым он сегодня же за бутылкой-другой расскажет о своих приключениях в Ижевске, расскажет так, как он умеет рассказывать. Он уже предвкушал, как они будут ахать и смеяться, и сопереживать рассказу. Все! Уже быстрее бы взлететь и прилететь! И проститься бы побыстрее, но участливо. А как? И тут Вита ему опять помогла.
– Иди уже, Саша, – поторопила она, – уже три раза посадку объявляли.
Она сказала это просто, так, как он и хотел, и даже чуть-чуть подтолкнула его в сторону паспортного контроля, после которого человек не принадлежит уже никому, в том числе и себе, а только Аэрофлоту или там каким-нибудь «Внуковским авиалиниям». Обслуживающий персонал небесных трасс в виде двух хмурых теток в темно-синей форме с золотыми крылышками на массивных грудях, неуместно для их работы напоминающих о силе гравитации; с тяжелым, весьма далеким от ангельского – терпением ожидали, когда же, наконец, пассажир покончит со своей лирикой и перестанет задерживать посадку. И тут вдруг Саша, уже было двинувшийся в сторону теток, обернулся и задал типичнейший для всех мужчин и уникальный по своей глупости и непродуктивности вопрос:
– Вита, а кто у тебя был до меня? Ну, в смысле – много мужчин?
Саша и сам был смущен своим вопросом, но в том, что он именно его выбрал для последнего прощального аккорда, была своя логика. Зная, что он у Виты был не первым мужчиной, ему хотелось (и это казалось важным) именно сейчас выяснить – далеко ли не первым? Заводилась ли она лично от него во время их близости, или же это следствие приобретенного ею в процессе познания мужчин – сексуального аппетита? О переплетенном ею сборнике лирических произведений поэта Велихова он сейчас забыл или же не хотел вспоминать, потому что уже разуверился в том, что стихи способны воздействовать на девушку так, что она забудет себя и станет любить автора самоотреченно, обреченно и долго. Скорее всего, не верил уже Саша в такое, слишком много разочарований или, скажем пожестче, – обломов у него было по этому поводу. Привлечь стихами девушку – да, не так уж и сложно, но вот удержать – вряд ли. Вита как раз и являла собой пример той самой бескорыстной любви, в которую Саша отказывался сейчас верить, опасаясь очередного облома.
Саша ведь, в отличие от нее, жаждал взаимности, от невзаимности он уже устал, любовные провалы утомили его. Менее совершенен, чем Вита, в области высоких чувств был наш поэт, циничный шоу-бизнес и непривлекательная практичность большинства девушек изрядно потрепали и попачкали его высокие, чистые идеалы, и, таким образом, чистота стоящего перед ним идеала вызывала в его подпорченном мозгу сомнения и опасения.