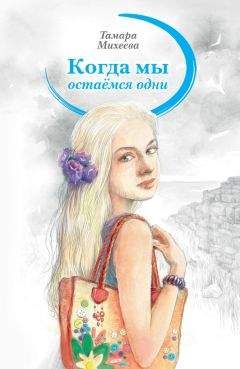Юрий Азаров - Новый свет
Учесть все, оприходовать, чтобы законность соблюсти, для этого и понадобился ему Сысоечкин. Шарову хотелось пресечь появившееся, пока что невинное, но такое заразительное не то чтобы хищение, а так, заманчивое присвоение добра казенного, отчего нередко страдало и качество выпускаемых изделий, а главное, вносило некоторый элемент безнравственности. К тому же присвоение государственного добра совершалось почти бездумно, поскольку мозг в незаконном выносе вещей почти не участвовал, а руки, только руки совершали преступление почти механически, а следовательно, никакого различения на оприходованное и на неоприходованное не делалось, что порой доводило Шарова до бешенства, отчего парла всем выдавалось выше всякой нормы. Не только авто-. ритарными методами Шаров пресекал заманчивый вынос, он и на сознание бил, общественность подключал, даже декады честной бдительности проводил, чтобы каждый следил друг за другом, — только бездумное уносительство никак не прекращалось, поскольку изобилие росло быстрее, чем сознание. Впрочем, никто особенного значения не придавал всем этим делам, кроме Шарова, так как это дело с выносом стало обычным, больше того, постыдным было покидать школу будущего этак, с пустыми руками, просто безнравственным считалось не перебросить через забор две-три доски, или кусок каната, или пару бутылок с горючей смесью, или еще какую-нибудь чертовщину, просто аморальностью воспринималось, если человек покидал территорию школы, не унося под полой хрюкающую новорожденность, которая никак не могла быть учтена ранее, поскольку была в утробе, и вылезла из Офелии совсем лишней, а потому и беззакония не получалось, поскольку она еще нигде не числилась, и хрюканье ее еще не было описано в детских сочинениях, и вес ее в кружке юннатов не установлен на белой теплоте точных весов, поскольку новорождение состоялось темной ночью, когда школа сладко спала и ей снилось только пять или шесть поросят, а их оказалось целых восемь. Похищенное скрывалось только ради приличия, поскольку еще присвоение незаприходованных ценностей не было узаконено. По этому поводу Сашко острил, рассуждая примерно так: все, черт бы его побрал, поменяется местами — воровство незаприходованного будет считаться высшей формой честности, поскольку такого рода присвоение есть новый метод развития изобилия. И наоборот, бесчестным будет считаться тот, кто окажется неспособным по каким-либо причинам выносить обобществленное добро за пределы данного учреждения. Но пока что такого рода мораль не стала нормой, поэтому действовали старые, обветшавшие добродетели, основанием которых было краткое: «Не укради». И Шаров отлично понимал, что нарушение этих добродетелей грозит серьезными последствиями.
Диалектичность логических ходов Шарова была доказательной: пока живет старый закон, пока в крови остатки старой морали, пока еще в недрах старого не обрело силу это новое и это новое не получило право на жизнь — нечего и рыпаться, надо бороться и утверждать старое, а не возиться с новым. Новое, в этом он убеждался постоянно, всегда подставляло рано или поздно подножку, и так называемый новатор кубарем катился с горы вместе с новшествами, от которых летели щепки, пух-перо летело, дым шел черными клубами.
Конечно же Шаров как педагог боялся проникновения новой, еще не оприходованной идеологии в среду детей: смогут ли детишки устоять перед соблазном выноса. И мысль о человеке типа Сысоечкина окончательно в решимость пришла, когда Шаров увидел, что новая психология, не узаконенная и нигде не значащаяся, въелась в детвору.
Однажды он зашел в мастерские и увидел Колю Почечкина. Перед мальчиком лежал изящно выполненный чертеж землеройной машины, основные черты которой были уже воплощены в ценном металле: серебро, бронза, титан. Мальчик сидел в белом халатике у зеркально-чистого шкафчика, — одно наслаждение было глядеть на юного творца.
— Что же ты делаешь? — спросил Шаров.
— А это я товарищу ко дню рождения подарок готовлю, — ответил Почечкин. — Я уже перевыполнил план, а из сэкономленных кусочков делаю для себя…
— Прекрасная модель, — сказал Шаров, и сердце сковало болью: проникла-таки новая психология, заразила детвору.
Пошел Шаров в другую мастерскую, подошел к Славе Деревянко, который в защитных очках стоял у токарного станка и вытачивал из черного дерева вазу.
— Что ты делаешь, Слава? — спросил Шаров.
— А это я тете Даше точу вазу ко дню Восьмого марта.
— Тете, это замечательно, — сказал Шаров, и сердце его облилось кровью. — Ну а где материал взял?
— А это лишний. Остался у меня от двух цилиндров, которые я выточил для макета завода «Красный раствор».
Пошел Шаров в изостудию и увидел за этюдниками Витю Никольникова с Сашей Злыднем: они писали пейзаж, ногами выдавливая из тюбиков краску.
— А что так, ногами? — спросил Шаров, белея.
— Понимаете, я хочу достичь объемности осеннего листа, чтобы тень падала от толстого слоя краски, — объяснил Никольников.
— И сколько тебе понадобится краски?
— Тюбиков двадцать, — ответил Витя. — Вы не беспокойтесь, эта краска все равно лишняя. Когда мы ее получали на складе, нам Петро Трифонович так и сказал: «А ну, заберите, хлопцы, а то эта краска не оприходована никем…»
Эта последняя фраза Никольникова ржавой иглой вошла в сердце Шарова: конец.
— И куда же вы пишете эти картины? На выставку или, может быть, для детского садика?
— Нет, это для себя, — ответил Злыдень. — Я отцу подарю, нам за уважение к родителям двадцать очков ставят в соревновании.
— Молодцы, — сказал Шаров, и в глазах зарябило: все незаприходованные решетки вдруг почудились, и поросята прокурорским голосом заорали откуда-то с потолка: «Батогом тебя на плацу стегать надо, а не в депутаты сельского Совета избирать!»
— Что с вами, Константин Захарыч? — вежливо спросили мальчики, выдавливая ногами вновь расставленные тюбики кадмия оранжевого, стоимость которого, как подсчитал директор, равнялась десяти рублям.
— Сердце что-то забарахлило, — сказал Шаров, уходя из мастерских.
Покончить раз и навсегда с этим безудержным, ставшим нормой выносительством — вот одна из причин того, почему он так бился за приглашение на работу честного до глупости Ивана Кузьмича Сысоечкина. Первым делом Шаров к себе Сысоечкина пригласил, обласкал, наставления разные сделал. Как по тонкому льду виражировал Шаров перед новым работником, чтобы через несусветную глупость пробиться к Кузьмичу.
— Ты посмотри, как я живу, — говорил Шаров. — У меня стула приличного нет. Все школе отдаю…
Шаров честность свою втискивает в Кузьмичову целомудренность, а она не лезет, Шарова честность, потому как где это видано, чтобы умная честность в глупость по доброй воле зарывалась! И Кузьмич сидит перед Шаровым, платочком свой левый глаз то и дело протирает: не то слезится его глаз от проникновенности, не то от счастья, что наконец-то выйдет на волю заветное чувство, которое из далекого детства идет, когда там, у себя на родине, под голодным Курском в тридцатые годы отец внушал: «Умри, а не смей брать чужого» — и когда он, Ванька Сысоечкин, в самодельных штанах, подвязанных одной веревкой через плечо, наискосок, отбегал свое время, а потом на войну ушел, где и оттяпало ему часть ступни да и всю левую половину от головы до пупа синими крапинками растушевало. И там, на войне, когда он выжил в госпитале и суждено ему было возвратиться на родину, не стал он тащить из домов чужое добро, потому как внутри бился завет отца, теперь покойного и похороненного на краю деревеньки: «Умри, а не укради!» И там, на войне, ему говаривали: чего не тянешь, коли ничейное перед тобой, бери сколько хочешь, а Ванька не брал, кивал головой, потому что глуп был и боязлив, считал, что будет непременно наказан богом, коль стащит чего чужого, так и растянется на чужой песчаной земле с чужим добром под мышкой, что он нередко и видел на войне, и верил, что коль сдержит завет отца, то и доберется до самого дома своего целым и невредимым. Целым и невредимым он не добрался, но все же не залег в чужой сырости земной, одну ступню оставил как знак памяти своей где-то под городишком — не то Шыпшем, не то Пшишем.
— Две задачи перед тобой, Кузьмич, — наставляет Шаров, — учет наладить и с хищением покончить. Не торопись. Я тебе во всем помогу, а то спасу нет, недолго так и за решетку сесть.
Сысоечкин улыбается, косит слезящимся глазом своим, улыбается кривенько, в тень свою синюю растущеванность прячет и приговаривает:
— Я работы не боюсь, я люблю работу.
— Я на тебя и покрикивать другой раз буду, — предупреждает Шаров, — требовать от тебя буду хорошей работы, а ты не обижайся, знай, что я для дела глотку рву, чтобы другим видно было, что не в сговоре мы с тобой…