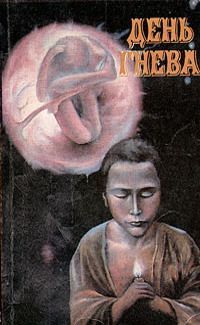Вера Галактионова - 5/4 накануне тишины
И впервые всепрощающий Христос, вземляющий грехи мира, в младенческой Своей ипостаси изливающий детскую, детскую Свою кровь, отвернулся от материнской мольбы, утяжелившейся бесконечно, неприподъёмно, безмерно…
— Перестань, аксакал. Плати деньги и занимай квартиру… Вот, картину тебе оставляю. Продашь. Она дорогая. Настоящая!
438
Татарин окаменел, запахнул халат на голой груди, прикрыв край какой-то татуировки,
— … — а — щастья — нет —!
Угловатые тревожные тени заходили по скуластому лицу его. И странно побледнела низкая переносица.
— Эй! — пронзительно закричал татарин, взмахнув руками, будто утопая. — Зачем твой Бог оставляешь? Твой Бог — зачем продаёшь?!. Твой Бог тебя обижался — мне зачем?!. Бери, слушай! Твоя цена квартира даю. Бери — снимай давай. Твоя цена даю…
Татарин уступал, решительно уступал, испугавшись изображения:
— Я обижал?! Нет. Ты свой Бог сам обижал — сам Бог бери. Обида Его себе бери!.. Твоя рука — обида бери. Моя рука обида не надо!.. Квартира твой пустой — надо. Наш квартира — который ваш Бог нет! Такой квартира — наш.
Цахилганов посмотрел на изображение вопросительно — и ему вдруг впервые захотелось перекреститься.
Зачем? Отчего?
Перекреститься, как заслониться от грядущего.
— Ладно, басурман, — сказал он, подходя к картине. — Будет тебе пустая квартира…
Будет вам много, много пустых квартир…
Наших…
По всему видать.
439
Через пару минут Цахилганов шагнул за порог, прижав картину изображением к боку —
завернуть её было решительно не во что,
и замок защёлкнулся за ним уже бесповоротно:
клацнул, провернувшись со звоном, туго дзынькнул металлическим заключительным аккордом…
Осмотрел ли он на последнее прощанье дверь своего бывшего весёлого пристанища — студенческой квартиры номер тринадцать? Транзитной квартиры: сначала — бабушкиной, потом его, потом — его и Любы, и уж отцовской затем, а теперь чужой, чужой,
в которой торопливо заперся
окончательный её владелец —
перепуганный насмерть татарин?..
А на что, собственно, смотреть?
Надписи на двери давно закрашены,
и затёрты они давно на стене подъезда…
Впрочем, не совсем. Проступала там ещё расплывчато, сквозь побелку, одна, кривая,
убегающая к потолку витиевато,
— я — осколки — разбитого — сердца — нашёл — на — дороге — здесь — прошёл — спотыкаясь — смешной — и — доверчивый — клоун…
440
— Значит, сидишь сидьмя, сиделец? Перед Любовью? — Сашка Самохвалов входил в палату, сутулый, словно горбун, и весёлый, будто именинник.
— Да, вот, вроде задремал немного, — признался Цахилганов. — То ли дрёмлешь, то ли грезишь — не разобрать, дружище…
Сашка успел переодеться. Все тесёмки на Самохвалове —
на белой свежей, будто накрахмаленной, шапчонке, сзади, и на рукавах короткого халата,
были прилежно и туго завязаны растопыренными, небольшими бантами. Вертя запястьями, он хвастался:
— Вот. Медсёстры у кастелянши, там, за стенкой, нарядили. Где-то выискали несусветный, древний фасон… Ну, а на кушетку что не ляжешь, соня?
— Так Мишка сказал, выпьем. Как только главный врач уйдёт. Жду.
— Жди, жди, — Сашка по-хозяйски включил верхний свет. — Барыба беспокоился, что Любе надо сменить халат на более тёплый.
Её веки не дрогнули от света, но с уголка глаза потекла по виску слабая мелкая слеза.
— Есть… Есть халат, — торопливо припоминал Цахилганов. — Байковый. В Любином шкафу. Новый.
…И это был, как ни странно, единственный подарок
жене — от него.
441
Так получалось, что он всё время забывал дарить Любе что-то на праздники,
а тогда вдруг вспомнил,
перед самым домом.
— Недорогой! Дёшево отдаю, — бабка-продавщица топталась на снегу и трясла чем-то чёрно-лиловым, с грубыми штампованными металлическими пуговицами. — Оч-чень хороший, жене возьмите! У меня самой такой, третий год ношу… На Новый год подарите! Она радая будет, ваша жена. Ой, радая!..
И Цахилганов, махнув рукою, купил — была не была.
Потом, дома, халат взяла в руки Люба. И покраснела.
Затем его цепко перехватила Степанидка, распахнула во всю ширь перед Цахилгановым,
— будто — перед — быком —
и встряхнула.
— Долго выбирал? — спросила она с презреньем. Синтетический? — У этого халата одно назначенье: в нём только с мужем ругаться. Сквалыга…
Дочь скомкала и метнула бедное изделье кустарного швейного объединения через всю комнату — так, что оно упало у края дивана на пол,
— ничего — себе — каков — бросок!
Теперь подарок валялся траурным ненужным комом, одноглазо поблёскивая издали металлической какой-то нашивкой.
— А ты… ещё и замуж не вышла за своего Кренделя, а ругаешься уже вполне профессионально! — окоротил её Цахилганов. — Тебя готовить к семейной жизни не надо. Учить практически нечему…
— Жлобина, — с ненавистью цедит сквозь зубы Степанида и кричит затем во всё горло. — Дурынде своей узколобой его подари, а матери — не смей! Такой подарок вокзальная шлюха не примет. Удолбище…
— Ах, так?! — побагровел Цахилганов. — Ты посмотри, Люба, на дочь! Хамка — наша дочь! Сама ещё рубля не заработала, а разбрасывается отцовскими покупками! Дурынду какую-то мне на ходу приплела. Выдумщица! Клевещет, как ушлая сплетница со стажем. Да ещё подбоченивается! Орёт в лучших базарных традициях…
442
— Не ссорьтесь, — просила Любовь, подбирая халат с пола. — У меня сердце от этого заходится. Нельзя же так. Нехорошо… Крепкая, новая одежда. Я тебе благодарна, Андрей. Признательна.
Она расправила халат, застегнула его на все металлические грубые пуговицы и уложила в шкаф бережно,
словно вещь эта была хворой,
а взрослая дочь Цахилганова цедила сквозь зубы, сдерживая слёзы:
— Расщедрился. Наконец-то. И как только тебя не вспучило, от такой доброты! Как не разнесло? Не понимаю.
— Стеша! — сжал кулаки Цахилганов. — Остановись сейчас же! Ты невменяема. Люба, останови её! Она меня раздерёт в клочья… Это не дочь, а какая-то…
— брысь — говорю — брысь —
рысь, понимаешь!
Но дочь тут же заорала гораздо громче него, сняв с ноги тапок и размахивая им:
— Тебя, тебя как не разодрало всего от такой непомерной денежной траты? И как только не разорвало тебя!.. Ну, погоди же: ра-зо-рвёт!!! Так, что сам себя не соберёшь… За издевательство над всеми хорошими. И за пресмыкательство перед всеми нехорошими! Вот.
— Ой! Ой! Ой! — нарочно смеялся побледневший Цахилганов. — Я тушуюсь! Смят тапкомётными войсками. Сражён! И падаю замертво. И дрыгаю ногами в предсмертных корчах, порчах и параличе… А ну, марш в свою девичью светёлку! И чтобы носа оттуда при мне не высовывала!
Начётчица…
443
Цахилганов не спешил возвращаться из прошлого. Самохвалов же в это время что-то толковал ему, жизнерадостно шепелявя.
— …Да наказал бы ты своему шофёру, он бы на толкучку смотался! — советовал, советовал он. — И через два часа самых разных халатов у тебя в палате было бы больше, чем у турецкого паши. Если, конечно, на фирменные магазины тебе тратиться неохота… Что ж ты самых простых действий выполнить не можешь? Впрочем, Барыба предупреждал…
— О чём? — Цахилганов морщился, пытаясь понять, какой именно разговор они с Сашкой ведут.
— О чём, о чём. О том, что глючишь ты теперь по-чёрному. С ума зачем-то сошёл…
Но Цахилганов уже снова ничего не слышал, разглядывая, как зажёгшийся фонарь за окном раскачивается на ветру и водит пучком света по чёрному стеклу, будто оранжевой тряпкой.
Тот же свет странно блуждал над Любиным спокойным лицом, то оживляя его, то мертвя.
И — снова — мертвя — и — снова — оживляя.
— …Эй! Разрешите войти! Тук-тук! — Сашка жёстко колотил костяшками пальцев по цахилгановской спине: —…Второй раз спрашиваю: на ночь домой поедешь или тут останешься?
— Останусь. Лень тащиться.
— А знаешь, чем медсёстры у кастелянши занимаются? — Сашка, посмеиваясь, прислушивался к шуму за стеной. — Спиритизмом! Блюдце втихаря крутят… Я, конечно, готов поверить во всё. Даже в то, что им удаётся вызывать дух мёртвого Менделеева на самом деле. Но в то, что битый час Менделеев способен разговаривать с этими тремя набитыми дурами…
— не — поверю — ни — за — что.
444
Цахилганов тоже посмеялся немного,
забывая тут же причину смеха.
— А то пошли ко мне! Прямо сейчас и начнём, — предложил Сашка. — Я понимаю, у меня не ресторан, хоть и подвальчик. У Мишки здесь — чистилище. А у меня — преддверие ада! Но магнитная буря стихла ещё два часа назад. Только отдельные, слабые всплески действуют на сознанье. Так что, сейчас — не страшно: не обострятся в морге твои заморочки. К тому же, ты у меня там был уже пару раз, и ничего… Ах, люблю я свой подвал! И, представь себе, — за стерильность: у меня там всё очищено от глупых человеческих иллюзий. И даже от посещений главврача — он туда никогда не спускается. Боится, а вдруг там свет погаснет. Как бы не заорать со страха. Начальнику это не прилично… Айда, правда!