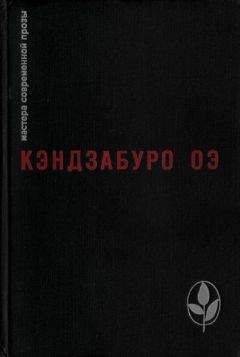Кэндзабуро Оэ - Опоздавшая молодежь
— Теперь ни за что не позволю делать аборт! Можешь мне поверить. Мне это так противно, что лучше самому в ад провалиться, я ж тебе говорил. Нет, теперь ни за что не позволю! — сказал лже-Джери Луис, неотрывно глядя вперед и аккуратно ведя машину.
— Значит, ты на ней женишься и заставишь рожать?
— Врач вчера смотрел Икуко. Сказал — еще одна операция и все. Так прямо и сказал. Нет, сейчас просто нельзя делать никакого аборта, — сказал лже-Джери Луис, глядя прямо перед собой. Уголки губ растянулись у него, в подобие улыбки. — Я поступил с тобой плохо, да? Ну что я мог поделать.
— Со мной? Со мной ты плохо не поступил. Дерьмо ты, — сказал я, все больше распаляясь. — Вот Икуко ты убьешь, это точно.
— Я боюсь, что проваливаюсь все глубже и глубже в бездонную пропасть, в ад. Я же тебе говорил.
— Ну и что?
— И человек, который убил того бродягу в Синдзюку, тоже будет лететь в бездонную пропасть, в ад, из которого он уже никогда не выберется. Он, я думаю, тоже этого боится. Правда?
— Доносить собираешься?
— Дурак, что ли, я? — закричал лже-Джери Луис, резко затормозив и нарушив движение шедших за нами машин. — На черта он мне нужен, этот бродяга? Я искал себе друга, настоящего друга. И не нашел. Его нет! Нет?
— Все в порядке, лже-Джери, все в порядке, — сказал я и убрал руку с его колена. Я подумал: «Сегодня я похож на дьявола из детской телевизионной передачи, пожирающего людей. Если он действительно донесет, придется мне и его убить. Клянусь, что я это сделаю».
Икуко Савада, услышав, что мы подъехали, спустилась к нам. Я должен был начинать новую жизнь без гроша за душой, и поэтому Икуко Савада дала мне сто тысяч иен, сказав при этом: «Хорошо ли, плохо ли, но на политика ты поработал и имеешь право на выходное пособие». И я сразу же решил съездить на эти деньги к Кан Мён Чхи. Икуко Савада сказала, чтобы я, пока буду в Кобе, каждый день непременно справлялся у администратора гостиницы о письмах. Потом с лже-Джери Луисом они проводили меня на вокзал.
Мой поезд отходил в десять часов вечера. Икуко Савада и лже-Джери Луис, сказав, что они хотят съездить еще в Хаконэ, грустные, заспешили по лестнице в мрачный подземный переход, оставив меня на платформе, пропитанной запахом угольной пыли и человеческой толпы. Тогда я не знал еще, что последний раз в жизни вижу складную фигуру лже-Джери Луиса. С высоко поднятой головой, расправив плечи, ловко, как молодое животное, он, будто не обращая никакого внимания на Икуко Савада, скакал вниз и исчез в желтом мраке. Он так равнодушно расстался со мной…
По телефону я дал телеграмму Кан Мён Чхи. Но и после того, как я дал телеграмму, экспресс еще не подали, и я смотрел на грязные рельсы, по которым он должен был подкатить. Чуть поколебавшись (я помню, мне тогда казалось, что я совершаю нечто грязное и постыдное. Может быть, мне пришли на память записки одного немецкого юноши, я как-то читал их, он признавался, что ему доставляло удовольствие звонить из автомата незнакомым людям и просить, чтобы его поносили непристойными словами), я снова снял трубку и набрал номер. Я слушал гудки, один за другим пять гудков, и только я подумал, что, если после седьмого гудка мне не ответят, повешу трубку, послышался металлический щелчок, а потом уже совсем не металлический, а призывный, чувственный голос, низкий и неторопливый: «Алло, алло! Слушаю! Алло, алло». Я уже совсем было собрался заговорить, но на другом конце провода в трубку тяжело задышали и послышался голос Асако Исихара, адресованный не мне: «Щекотно. Да не двигайся же». А потом снова в трубку: «Алло, алло, слушаю».
Я бросил трубку. Лицо у меня горело. Потом я неожиданно рассмеялся. Но все-таки я заставил себя признать, что мои пылающие щеки и уши, как у ребенка в жару, и плохое настроение вызваны ревностью, которая обожгла мне нутро. И, когда поезд уже мчался по эстакаде, разрывая сердце Токио хриплым гудком, в моем сердце не осталось даже пепла смеха. В нем была лишь зола утраты чего-то бесконечно дорогого, вспыхивавшая еще горячим огнем зола тоски. И ни следа того подъема, который поселился в нем благодаря разрыву с Тоёхико Савада.
Токио стремительно убегал от меня. Последним символом Токио, который я увидел, символом, демонстрирующим сущность жизни людей Токио, была огромная рекламная тумба; на ней рекламировалась новая губная помада, розовая и коричневая. Но сейчас, когда было уже темно, а реклама плохо освещена, огромные губы выглядели темно-серыми створками, грустно сомкнутыми и безжизненными. Вот уж поистине минорная реклама…
«Токио. Теперь он для меня будет крепостью, в которой обитают чудовища, посылающие мне привет сомкнутыми темно-серыми губами. И эти губы — стены крепости. Токио для меня прочно заперт, и со мной он не заговорит, — думал я. Вульгарные женщины в нейлоновых комнатах, жалкие полуголые мужчины, сидящие, изнывая от жары, у распахнутых окон в своих нищих домишках вдоль железнодорожной линии. Они снова заставляли меня испытать чувство неполноценности, уже пережитое мной, когда я, приехав в Токио со своим провинциальным выговором, услышал их речь. Действительно, в Токио особый язык. Язык, на котором говорят только в крепости. Мой проклятый выговор! Я даже не мог определить, в чем он, а они тут же реагировали на него, точно этот мой выговор острой иглой колол их нежную кожу. Я был для них варваром, обитающим за стенами крепости, человеком, говорящим на непонятном языке и не имеющим ничего общего с Токио. Дни, много дней я думал, что проник в Токио, проник в само его нутро, но это оказалось обычной детской фантазией. Лучше вообще не употреблять слово „Токио“. Я отвергнут, я изгнан из города-крепости, в котором обитают чужие мне люди. Точнее же говоря, я изгнан из среды благополучных людей. И еще этот смехотворный бунт, который я учинил».
С чувством опустошенности я вспоминал глупый подъем, который охватил меня в поезде, в конце прошлого года, когда я подъезжал к Токио. Я думал тогда, что хочу овладеть Токио. Но у меня ничего не вышло. Наш союз не принес мне радости…
Я встал, чтобы опустить на окне штору и поскорее освободиться от Токио. В окне отразилось темное, потное, ничем не привлекательное лицо юноши, подавленного, разбитого, усталого, нездорового. Не в силах вынести это отвратительное зрелище, я отвел глаза и опустил штору. Я лег спать в скверном настроении и спал без снов, все время просыпаясь. Мне стало попятно, почему усталый ребенок так сладко спит в поезде, на жестком диване. И так же ясен мне стал символический смысл бегства из Токио честолюбивого юноши, рожденного в провинции.
Утро. Запах моря, его перебивает запах копоти. Потом вдруг опять запах свежести, и поезд подходит к станции сразу же за портом. «Нечего отчаиваться. Нечего отчаиваться. Во всяком случае, я теперь не работаю на этого грязного политика». Когда я увидел, что Кан Мён Чхи, почему-то сникший, как глубокий старик, сидит на скамейке и, глядя на меня, приветливо кивает головой, я забыл думать о себе, о том, как всю ночь боялся, что Кан Мён Чхи заметит мою подавленность, и чуть ли не бегом бросился к нему с криком:
— Послушай, Кан, что у тебя случилось? Ты болен?
— Нет, не болен. От меня ушла жена. Я теперь конченый человек. Я опозорен.
Кан сказал это, поднимаясь, но все еще глядя вниз. Я смотрел на него. В нем уже не осталось ничего общего с Каном на моем портрете.
— Ушла жена? Но ведь ты сам говорил, чтобы вернуться в Корею, тебе не остается ничего другого, как убить жену, — сказал я, и вдруг меня обожгло страшное подозрение. — Ты убил ее?
— Ушла. Убит я! — сказал Кан.
— Конечно, это, должно быть, очень горько. Хотя, если не жениться, то и жена не уйдет, — сказал я, как философствующий юноша в довоенной школе.
За моей спиной весело и чуть пренебрежительно рассмеялись девушки, ожидавшие утреннюю электричку. Кан Мён Чхи, очнувшись, со злостью заорал на них по-корейски. Провожая взглядом напуганных и бросившихся прочь девушек, он плюнул им вслед и сказал хриплым, все еще раздраженным голосом:
— Пошли к морю? Или подождем, пока вода согреется, чтобы не перехватывало дыхание? Правда, море в это лето нехорошее. Но все равно, больше идти некуда.
Хромированные стрелки часов на вокзальной площади показывали шесть — первый час начала летнего утра.
Мы пошли в сторону порта, медленно, шаг в шаг с неторопливо двигавшимися безработными, которые гуляли по кругу на вокзальной площади, греясь на солнце. Тогда, зимой, мы шли гораздо стремительнее, мы шли энергично. Мы шли даже быстрее, чем рабочие с верфи…
— То, что ты сейчас кричал по-корейски, это ругательство?
Я решил не заводить разговора о жене Кан Мён Чхи, понимая, как ему, должно быть, тяжело говорить об этом.
— Ошибаешься. Совершенно ошибаешься, — грустно сказал Кан Мён Чхи. — Прекрасные девушки. Чистая Япония. Ваш смех, ваш веселый смех подобен июльской розе — вот что я им сказал. Это мои стихи.