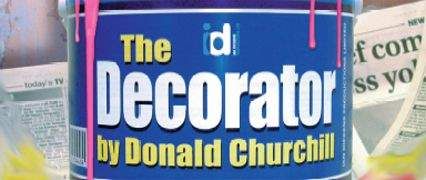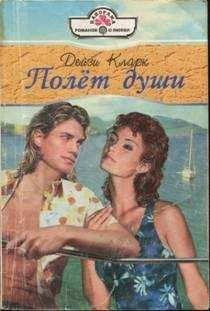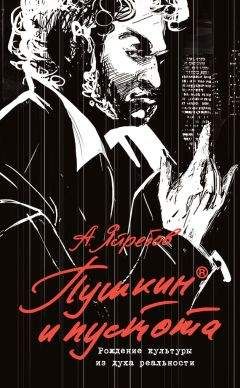Тургрим Эгген - Декоратор. Книга вещности.
И я чувствую, что камин не только горяч, но и подвижен. Я различаю удары сердца. Ритмичный, сильный пульс. Я опускаю руку пониже, чтобы проверить, прекратится ли сердцебиение. Оно усиливается. Милостивый Боже.
Я проверяю второй рукой, она нащупывает другую часть, спокойный изгиб бедра. Я чувствую пульс и здесь. Тёплые мерные толчки. Мне кажется, я унюхал запах копчёного мяса.
— Сигбьёрн не в силах оторваться от своего детища, — говорит Йэвер.
— Пойдём? — спрашивает Катрине.
— Если хочешь знать моё мнение, — гогочет Йэвер, — это знак — тебе надо больше есть.
Катрине встречает остроту смехом. Бог знает как я отлепляюсь от камина.
Убираю руки. Пульс пропадает. Бредя к выходу на дрожащих, подгибающихся ногах я пытаюсь вызвать пульсацию в пальцах. Это могла быть только она. Я был плох, не в себе, и оттого принял толчки струящейся по моим жилам крови за удары, доносящиеся из бетона, как если б там находился кто-то живой. И на миг я поддался панике, убоявшись, что остальные тоже положат руку на моё творение и почувствуют то же, что и я. Хотя это невозможно.
Но пальцы безжизненны. Ничто в них не пульсирует и не дёргает. Ни когда я со всей силы сжимаю перила на выходе из дома. Ни когда я отчаянно вцепляюсь в ручку задней дверцы такси, везущего нас в город. Ни когда я так сжимаю стакан с аперитивом, что белеют костяшки пальцев, а Карл-Йорген провозглашает «Скол!», и какой-то его прихвостень лезет взглядом Катрине в сине-зелёное декольте. Ничего. Как будто пальцы умерли.
А когда приносят закуску — прихваченную на гриле голубиную грудку с кровью, нарезанную на тонюсенькие ломтики и залитую багряным соусом с чёрными сгустками смородины, я вижу визжащую пилу с полотном с алмазной крошкой и холодную бледную руку. Я едва успеваю нагнуться к ведёрку, где охлаждается шампанское, и меня рвёт, разбрызгивая месиво из горького питья и горького страха. Кто-то фыркает: «Фу!» Всё, с мясом я завязал.
— А что у тебя произошло с Эйнаром Сюлте? — спрашивает Кристиан.
— Что ты имеешь в виду? — откликаюсь я. Копаться в этой истории ему никто права не давал.
— До меня дошли слухи.
— Ничего не произошло. Мы не сошлись в цене.
— Я не знала, что ты вёл переговоры с Сюлте, — встревает Катрине. — Когда это было?
— Пока ты утруждалась в Гонконге, — отвечаю я и посылаю ей взгляд, который ясно говорит, что если она будет наседать на меня с Сюлте, ей придётся поведать про Гонконг. Упреждающий удар точно попадает в цель.
— А ты часом не встречал фру Сюлте? — спрашивает Кристиан. — Туве?
— Нет, но мне доводилось о ней слышать, — отвечаю я с ухмылкой.
Кристиан расплывается в улыбке.
Я не притронулся к тарелке, уже второй. Катрине хлопотала полдня, особенно ей удалась сервировка. Цвет и фактура яств сочетаются как нельзя более элегантно. На закуску нам был подан салат из тушеного осота с бешено жареными тараканами в обрамлении, согласно модных тенденций, винегрета из утренней мочи, соплей и окислившихся батареек. На горячее, которое красуется сейчас передо мной, нам предложен приготовленный на гриле задавленный на дороге барсук в машинном масле, гарнированный ломтиками застывшего лярда и пюре из хвостатых троллей по сезону.
Запивать это можно на выбор позапрошлогодним рождественским пивом, выдохшимся и ароматизированным завалявшимися сигаретными окурками, или кефиром 1969 года изготовления. Таня не пьёт, отговариваясь своей беременностью. А говорит ещё меньше, чем обычно.
Хотя аппетит не наладился, но с тем, чтобы вести себя нормально и адекватно, проблем у меня нет. Сейчас, когда мы сидим в столовой, мне едва слышно музыку сверху. Уитни Хьюстон, раз за разом. Уже несколько суток подряд.
Обед движется по стандартной схеме. Кристиан хвалится своими успехами на издательском поприще, я рассказываю о своих в моей области, как уж там её назвать. Дела, правда, идут в гору. Несколько знакомых Йэвера звонили закинуть удочки насчёт заказов. С одним мы перешли к конкретике: я буду делать парикмахерский салон на Хегдехаугсвейен, там клиенток, пока они отсиживают положенный срок с краской или химией на голове, решили ублажать кабельным телевидением и поставить на каждое место по монитору. Полагаю, мне удастся решить задачу практично и элегантно.
Даже Катрине довольна мной. А на этой неделе нам вообще есть что праздновать. Кроме того, что мой счёт отяготили йэверовские деньги, мне были вручены хрустальная ваза — страшная как смертный грех — и чек на тридцать тысяч крон за первое место в ежегодном конкурсе дизайнеров, проводимом Креативным Союзом. Я впервые завоевал нечто подобное.
— За лопаточку? — переспрашивает, выслушав панегирик Катрине моему триумфу, Кристиан таким тоном, будто ему видится в этом нечто истерически смешное.
— Да, лопаточку для жарки, — отвечаю я. — Предмет, без которого не обходится никто, в том числе, полагаю, и ты.
— И что ты с ней сделал такого новаторского?
— «Новому тысячелетию — новую лопаточку», — импровизирую я, и Кристиан скрючивается от гогота. Сама Таня улыбается.
— Во-первых, я применил новый материал, особо прочный пластик, который не меняет цвета ни от сильного жара, ни под воздействием красящих продуктов. Ну и, во-вторых, форма. Попробуй найти лопаточку, которая учитывала бы то простое обстоятельство, что граждане в большинстве своём пользуются сковородками круглой формы. Не говоря уж о любителях воков. Моя лопатка асимметрична, поэтому ей легко перевернуть и омлет, и яичницу. Она напоминает лист гинго, если ты представляешь его себе.
— Хитро! — тянет Кристиан. — Слушай, а посмотреть можно? У тебя дома есть?
— Нет, она существует в виде единичного опытного образца. Вернее, двух. Я сделал вариант для левшей тоже.
— Раз ты получил за нею дизайнерскую премию, значит, её запустят в производство? — спрашивает Таня.
— Это мне трудно себе представить, — отвечаю я.
— Почему?
— По нескольким причинам. Во-первых, материал новый и слишком дорогой. Во-вторых, и это бесспорно главное, покупатель не готов думать о том, какой формы лопаточка ему нужна. Он берёт грошовую деревянную. Через пару месяцев её приходится выкидывать. Тогда он покупает новую. Но обязательно привычной и стереотипной формы.
— Такова человеческая натура, — говорит Кристиан.
— Именно. Это натура человека.
— Наш общий враг, — заключает он немного высокопарно, как если б цитировал сам себя.
Лишь под занавес парадного обеда, в котором я научил себя видеть ритуал, с безжалостностью, неотвратимостью и чёткой цикличностью повторяющийся в нашей жизни, мы с Кристианом остаёмся в гостиной наедине. Барышни на кухне, прибираются под разговоры, конечно крутящиеся вокруг Таниной беременности. Это понятно даже по звукам, которые оттуда раздаются. Я знаю, что ночью, когда носящаяся со своим ожиданием пара покинет наш дом, Катрине заведёт речь о том, не пора ли и нам ребёнка?
Кристиан пьян в дым, а перед ним ещё полный бокал. Я как стёклышко, трезвее трезвого, но его хмельная благодушная весёлость заражает меня спокойствием, толкает открыться ему. Рано или поздно этого не миновать.
— У меня к тебе вопрос морально-этического плана, — говорю я.
— Да?
— Представь, что ты убил человека.
— А можно выбрать, какого? — спрашивает он и хохочет.
— Пожалуйста. Это к делу не относится.
— О'кей. Тогда я буду представлять себе некоего директора по реализации книг... для вящего правдоподобия.
— Ладно. Свидетелей нет. Убитого, конечно, станут разыскивать, но никому не придёт в голову связывать тебя с ним. Возможно — я подчёркиваю, возможно, — к тебе придут с парой вопросов, но абсолютно и полностью исключено, чтобы полиция всерьёз заподозрила тебя.
— Да уж, этого директора по реализации многие бы с радостью... Так. Отлично. Но куда я дел тело?
— Вот, и это самое элегантное. Труп спрятан так, что фактически не поддаётся отысканию. Во всяком случае, никому не придёт в голову искать его в этом месте. Он, не вдаваясь в подробности, замурован в бетон.
— В таком месте, которое ни у кого не вызовет ассоциаций ни со мной, ни с жертвой?
— С тобой, может, и да, но с жертвой точно нет.
Кристиан отхлёбывает что он там пьёт и ставит бокал обратно на столик Ногучи.
— Так. И в чём этический вопрос?
— Чтоб ты сделал?
— Сделал? Если обстоятельства таковы, как ты излагаешь, то, надо понимать, я сделал уже немало. И теперь желательно помалкивать, разве нет?
— Ты бы смог с этим жить?
Он молчит. Уитни Хьюстон поёт.
— Ты ведёшь речь о совести?
— О ней.
— Ты спрашиваешь меня, смогу ли я прожить остаток своих дней человекоубийцей, просыпаясь каждое утро со знанием того, что я сделал, — или вскакивая по ночам оттого, что снова видел это во сне? Притом, что никто об этом не знает?