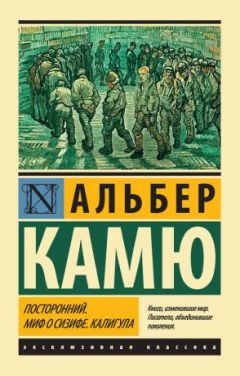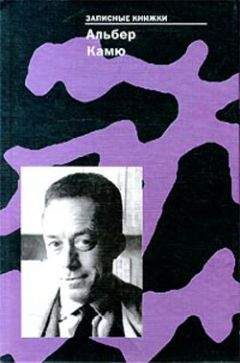Тот Город (СИ) - Кромер Ольга
Всё это он поведал Осе спокойным, почти равнодушным голосом, сильно, по-прибалтийски оглушая все согласные и потягивая клюквенный чай. Допив, сказал:
– Ты просила рассказать, я рассказал. Больше к этому возвращаться не будем.
Больше они никогда о его семье не говорили. Зато о своей жизни в Париже и Вене он вспоминал охотно, рисовал ей план Лувра и венского Kunsthistorisches Museum, рассказывал о венской архитектурной школе, о Сецессионе [63], о Климте, Кокошке [64], Плечнике [65], иногда даже делал быстрые чёткие наброски. Уже давно не было с ней рядом человека, с которым ей было бы так интересно и в то же время так легко.
В театре над ними подшучивали, все были уверены, что у них роман, не понимали, почему надо скрывать его, ведь оба уже не в лагере. Ося сердилась, убеждала Аллу с Мариной, что никакого романа нет, Витас просто отмалчивался. Удивительно он умел молчать: молчал, смотрел на собеседника синими своими глазами, при этом непременно что-нибудь строгал, или вырезал, или приклеивал, и собеседнику становилось неловко, он чувствовал себя болтливым бездельником и тоже замолкал.
Так прожили они два месяца, а в июле уволили Акинского. Особисты Ухтижемлага обнаружили пятно в его биографии: он скрыл свою настоящую фамилию, Иванов, и жил под театральным псевдонимом – Акинский. Такова была официальная версия. Закулисная же версия утверждала, что Николай Петрович подал ходатайство о присвоении пяти актёрам звания заслуженных артистов и в ответ на недовольство начальства тем, что к награде представляют бывших арестантов, ответил: «А у меня все актёры такие!»
Какая бы версия ни была истинной, добрейший, милейший Николай Петрович, покровитель и защитник актёров, уехал. Новый директор, по фамилии Рыченко, оказался человеком вспыльчивым, грубым, не терпящим возражений. В несколько месяцев он перессорился с большей частью труппы. Вольнонаёмные актёры, декораторы, электрики, рабочие сцены начали увольняться один за другим, на их место приходили случайные, неумелые люди, и в январе сорок девятого в театре случился пожар. Сгорело всё, кроме больших декораций, хранившихся в соседнем доме, и музыкальных инструментов, вынесенных музыкантами с риском для жизни. Ви-тас, обвязавшись мокрой телогрейкой, дважды нырял в горящее здание, но вынести сумел только пару костюмов и несколько партитур из библиотеки театра.
В мужской зоне ОЛП-1 освободили один барак, свезли туда всё уцелевшее театральное имущество и устроили там репетиционную базу. Но что-то большее сломалось, сгорело в огне, пылавшем с такой яростью, что снег почернел на несколько километров вокруг. В Косолапкине, как они называли между собой Дом культуры, в неуклюжем претенциозном здании, над которым они так часто посмеивались, обитал высокий дух театра. То проносился над рядами плюшевых кресел, и у зрителей пробегали по коже мурашки восторга, то слетал на сцену, и солист брал такую чистую высокую ноту, от которой слёзы наворачивались на глаза, то копошился возле софитов, и обычная подсветка становилась волшебным неземным сиянием. А теперь этот дух исчез, в бараке ОЛП ему не было места. Даже начальство это ощущало, и театр оперетты и драмы переименовали просто в передвижной.
Рыченко убрали, потом опять вернули, потом опять убрали. Многие вольные ушли, разбрелись по лагерным агитбригадам, кто устроился в воркутинский театр, кто – в сыктывкарский. Отдельные счастливцы, у которых кончились все сроки, возвращались домой. Марина и Алла, которым оставался ещё год лагеря, считали дни, Ося решила подождать их. Витас тоже остался в театре. Вдвоём с Осей они соорудили такие декорации к очередной премьере, что даже новый начальник лагеря, известный суровым нравом, объявил им благодарность.
– Если бы ты сейчас мог жить где угодно, – спросила его как-то Ося, – где бы ты жил? Куда бы ты поехал?
Они сидели в Осиной комнате, за занавеской, пили настоящий чай, заваренный в настоящем, только чуть-чуть щербатом чайнике, – за год Ося обросла имуществом. Кроме чайника, у неё была настоящая подушка и два настоящих крепдешиновых платья, купленных на толкучке и перешитых. Имея доступ к театральным запасам, можно было из старых списанных вещей, обрезков и остатков соорудить себе полный гардероб. Строго говоря, это даже не было бы воровством. Но Ося не могла. Алла над ней подшучивала, Ося отмалчивалась, потом не выдержала, сказала Алле: «У них я не возьму ничего. Я не размениваю душу на тряпки». «Красиво, аж жуть», – сказала Алла, но шутить перестала.
Витас молчал, Ося повторила:
– Так куда бы ты поехал?
– Наверное, никуда, – после долгой паузы ответил он.
– Никуда? – переспросила поражённая Ося.
– Никуда. Когда у тебя нет дома, не всё ли равно, где именно у тебя его нет.
– Так заведи себе дом, – предложила Ося. – Сколько можно жить в этом сарае.
– Дом обязывает, – медленно сказал он. – Если есть дом, должна быть хозяйка, должны быть дети. А угол ни к чему не обязывает, ты можешь быть гол как сокол и так же свободен.
Ося встала и отошла к печке проверить чайник. Всё чаще и чаще в последнее время заводил он с ней такие беседы. Понимая неизбежность разговора, она хотела оттянуть его как можно дольше, боясь, что потеряет Витаса, если не навсегда, то надолго. А сейчас вдруг решилась, вернулась к столу, спросила, встретившись с ним взглядом:
– Ты хочешь мне что-то сказать, Витас?
Он посмотрел удивлённо, и Ося уже пожалела было, что затеяла это опасное разбирательство, но он ответил, всё так же медленно и серьёзно:
– Да. Ты права. Пришло время нам поговорить.
– Мы только и делаем, что разговариваем, – сказала Ося, вдруг снова испугавшись.
Он провёл по столу рукой, сметая крошки с клеёнки, словно отбрасывая последние Осины слова, потом сказал:
– Ты знаешь, о чём я.
Ося наклонила голову, он встал, подошёл к ней, взял за руку, спросил, улыбаясь:
– Мне необходимо опускаться на колени?
– Не надо, не надо на колени! – испугалась Ося.
– Тогда я просто жду твоего ответа, – чётко выговорил он.
Всё имеет цену, напомнил Осе не вовремя проснувшийся внутренний голос. Два с лишним года прекрасной дружбы дорогого стоят. Давай, плати.
– Витас, я не могу, – сказала Ося. – У меня есть муж.
– У тебя был муж, – поправил он.
– Ты этого не знаешь, и я этого не знаю.
– Если бы ты была моей женой, я нашёл бы тебя где угодно и был бы рядом, – с сильным акцентом сказал он. – Я думаю, что твой Яник поступил бы так же. Если его нет рядом с тобой, значит, его нет. Ведь ты же писала везде, куда можно, и никто не дал тебе никакого ответа.
– Зачем ты убиваешь мою надежду? – спросила Ося. – Она помогает мне жить.
– Она мешает тебе жить. Жить настоящей, непридуманной жизнью, здесь и сейчас, а не в прекрасном «потом». «Потом» может и не наступить, Ося.
Вот сейчас она скажет ему нет, и он уйдёт. И она опять останется совершенно, невыносимо одна. И он прав, «потом» может и не наступить. Но что делать, что же ей делать, если душа её занята, окольцована, помечена чёрной меткой «Пожизненно принадлежит».
– Тебе трудно ответить сейчас, – сказал он. – Но рано или поздно ты поймёшь. Я буду ждать.
– Сколько, Витас? – шёпотом спросила Ося.
– Столько, сколько потребуется.
– Но если, если это не случится… никогда? – собрав всё своё мужество, спросила Ося.
– Значит, мне опять не повезло, – усмехнулся он, поцеловал ей руку и ушёл.
В конце сороковых по стране покатилась новая волна репрессий. Началось всё с ленинградского дела, потом пошли волны переселений: прибалтийская, молдавская, армянская. К лету пятидесятого года, когда и у Аллы, и у Марины закончился срок и они сняли вчетвером уже не угол, а две смежные комнаты в рабочем посёлке на окраине Ухты, настроение у всех было подавленное.