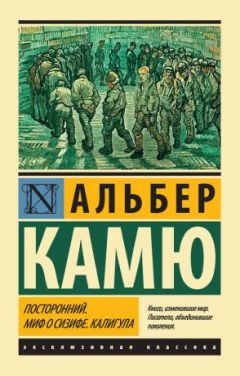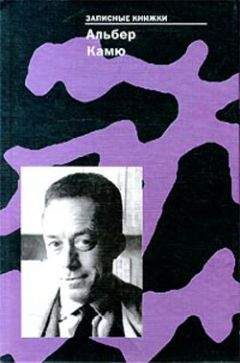Тот Город (СИ) - Кромер Ольга
Я не дурю, хотел сказать я и не смог. Он был прав, Корнеев, он только не знал, что голова идёт кругом и у меня самого, может быть, даже сильнее, чем у неё.
– Она тебе нравится, Корнеев? – спросил я и приготовился получить по шее за слишком смелый вопрос. Но он не ударил, он просто не ответил, и мы долго сидели молча в темноте. Потом он спросил:
– Твоя какая забота?
– Ей не будет с тобой хорошо, Корнеев. Ей другое нужно.
– Твоя какая забота, – повторил он и опять замолчал надолго. Потом заговорил, медленно, трудно, словно слова были тяжёлыми булыжниками, которыми он едва ворочал.
– Ты тут поиграешь да свалишь. А ей дальше жить. Тесно ей здесь, думаешь, не вижу? Но в город не надо ей, не сможет она. Ей в деревню надо или в райцентр, чтобы не сразу. Зачем её манишь? Ты от скуки, а она всерьёз. Оставь её, не сбивай.
– А если я тоже всерьёз?
– У тебя своих полно, городских. Другую найдёшь.
– А у тебя только она, да, Корнеев?
Зачем я это сказал, я и сам не понял. Зато в кратчайшую долю секунды между моими словами и мощным корнеевским кулаком, опустившимся на мою голову, я успел понять, что делать этого было не нужно.
От удара я свалился на пол, Корнеев нашарил меня в темноте, поднял за шиворот и усадил на топчан. Я схватил его за свитер, выпалил:
– Ты прав, Корнеев. Я дурак.
Он разжал мой кулак и растворился в темноте.
– Я дурак, и прошу прощения, – сказал я. – Но решать всё равно ей. Не можешь ты её заставить.
Ответом мне была полная тишина. Я вытянул руки и похлопал ими перед собой, как делают дети, когда играют в жмурки. Корнеева в комнате не было. Я потрогал лоб, он был мокрый и липкий. Вздохнув, я потащился на кухню.
На кухне сидел Лев Яковлевич, медленно потягивал чай из огромной кружки. Я спросил у него, где аптечка и что это за порошок, которым Елена Фёдоровна остановила мне кровь.
– Сушёный подорожник, – сказал он, разглядывая мой лоб так внимательно, что мне сделалось неловко. – Две ложки на полкружки. Аптечка на прилавке.
Я взял ящичек, открыл. Кроме порошка подорожника в нём лежал большой клубок чего-то мягкого и пушистого.
– Сухой мох, – пояснил Лев Яковлевич. – Используем вместо ваты.
Я сполоснул лоб под рукомойником, прижал кусочком мха, ожидая, пока подорожник настоится.
– Говорите, вам двадцать лет? – неожиданно спросил старик.
– Скоро будет двадцать один.
– И вы первый раз в наших краях?
– Да.
– Интересно, – пробормотал он. – Исключительно интересно.
– Что интересно? – не понял я.
– Знаете, – вдруг сказал он. – Я столько лет мечтал поговорить с человеком оттуда, из большого мира, из Ленинграда особенно. Поговорить, порасспросить. И вот вы тут, рядом, студент, из Ленинграда, образованный человек, думающий, судя по всему, а мне не хочется.
Я покраснел, переступил неловко с ноги на ногу, он заметил, сказал торопливо:
– Не поймите меня превратно, дело совсем не в вас, совсем не в вас. Дело во мне. Просто дороги разошлись. Слишком сильно разошлись, необратимо. Какая мне разница, над чем работают сегодня в Физтехе [62]. И есть ли ещё Физтех.
– Физтех есть, – быстро сказал я.
– И папа Иоффе все ещё там?
– Он умер, кажется.
– Логично. Дурацкий вопрос, он был старше меня лет на двадцать.
– Они новый токамак недавно сделали, – поднатужившись, вспомнил я.
– Что такое токамак? – спросил он.
– Кажется, это для термоядерного синтеза, – сказал я. – Я, к сожалению…
– Конечно, конечно, – перебил он. – Да и не всё ли равно.
– Если бы вы могли, вы бы вернулись? – спросил я.
– А я могу, – сказал он. – Мне семьдесят четыре года. Судя по всему, времена сейчас не такие кровожадные, не будут они мучить старика. Дадут минимальную пенсию, комнату в коммуналке и оставят в покое. Вопрос не в том, могу ли я. Вопрос в том, хочу ли.
Он взял кружку с отваром, понюхал, сказал: «Достаточно», – вынул из кармана нож, отрезал ещё кусочек мха, смочил в растворе и протянул мне. Потом достал из-за печки связку тонких кожаных ремешков, натянул один мне на лоб, завязал сзади и снова сел.
– Я гений, – сказал он, глядя на красные отсветы, пляшущие на полу возле печки. – И этого я Сталину не прощу. Не смотрите на меня круглыми глазами, я не сошёл с ума и не страдаю старческим слабоумием. Я просто не признаю скромность положительным качеством. Если я по причине своей нескромности дойду до предела собственной компетенции, найдётся масса желающих меня остановить, не так ли? Но если я по причине своей скромности не реализую свой научный потенциал, желающих продвинуть меня будет гораздо меньше. Если будут вообще. Хотите поспорить? Не надо. Со мной спорить бессмысленно, я уже сказал вам, я гений. Если бы жизнь моя сложилась по-другому, я был бы сейчас академиком, лауреатом, возможно, даже нобелевским. А я занимаюсь чёрт-те чем.
Не зная, что сказать, я налил себе кипятка из чайника, сел за стол напротив него.
– Иногда я утешаю себя мыслью, – снова заговорил он, – что все эти люди обязаны мне жизнью, поскольку без меня, без моих знаний и умений они бы не выжили. Это утешает, но ненадолго, я никогда не хотел стать богом, я хотел стать учёным.
Он замолчал, спрятал лицо в ладонях. Я поднялся, собираясь уходить, он остановил меня жестом, помолчал ещё немного, сказал:
– Подождите. Я хочу рассказать вам очень интересную историю. Я всё сомневался, стоит ли, но раз уж вы сами заявились в такой поздний час, значит, судьба сводит нас. Интересная это штука – игры судьбы. Ольга Станиславовна послала вас сюда, даже не подозревая, что… Впрочем, давайте-ка лучше пройдём ко мне, я расскажу вам всё по порядку.
Глава одиннадцатая
Возвращение
1
Весной сорок восьмого года Осю освободили. Произошло это на удивление буднично. Театральная труппа возвращалась в лагерь, на входе Осю окликнул начальник караула, приказал:
– Ярмошевская, собирайтесь и на выход с вещами.
– Куда? – спросила Ося, расстроенная, но не удивлённая. Такое случалось постоянно. По случайности, по чьей-то прихоти, из-за бюрократической ошибки заключённого могли перевести с одной работы на другую, из одного лагеря в другой, обычно без предупреждения и без объяснения причин.
Марина и Алла остановились рядом, ждали ответа.
– Куда? – повторила Ося. – В другой лагерь?
– На поселение, – сказал начкар, глядя поверх Оси на въезжающий в зону грузовик.
– Как это? – не поняла Ося.
– Освобождают, на поселение, сколько раз повторять. Быстрее давайте, ворота надо закрывать.
Марина завизжала, бросилась обнимать Осю, Алла потянула её за руку в барак – собирать вещи. На ватных ногах Ося дошла до своей койки, села и поняла, что ей очень страшно. Всё, что было у неё на этом свете: друзья, работа, крыша над головой, – всё было в лагере. Она отвыкла от большого мира, она не знала его нынешних нравов, его законов. Из лагеря можно было выйти, но идти было некуда.
– Значит, так, – сказала Алла. – Ты сейчас пойдёшь и попросишься переночевать до утра. Нечего ночью таскаться в одиночку.
– А если не разрешат?
– Слезу пусти, пообещай нарисовать чего-нибудь, они любят. Ну что ты как неживая, радоваться надо. Меня бы освободили!
– И что бы ты делала?
– Побежала бы к Марику, – мечтательно сказала Алла.
– У тебя есть Марик, – вступилась за Осю Марина.
– У неё есть Витас.
– Не говори ерунды, – поморщилась Ося. – Урбанас – просто друг.
– Вот этого просто друга ты завтра и попроси, чтобы нашёл тебе комнату в Ухте. И Акинскому не забудь сказать, чтобы он тебя оформил как вольнонаёмную.
Ося собрала в узел немногие свои пожитки, на всякий случай попрощалась с подругами и отправилась в административный барак. Там её обыскали, выдали справку и предупредили, что территорию лагеря необходимо покинуть немедленно.