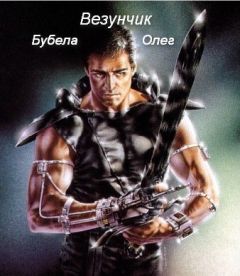Олег Рой - Капкан супружеской свободы
Стрелки часов катились к полуночи, а Эстель, продолжавшая бурно обсуждать семейные дела со свекровью и дочерью, так за весь вечер и не сказала Алексею ни единого слова, которого не могла бы повторить во всеуслышание перед целым кагалом родственников. Разумеется, с горечью подумал он: те интимные минуты в саду Тюильри, скорее всего, были с ее стороны просто данью короткому милому флирту с новым мужчиной, появившимся на ее горизонте. И, поднимаясь со своего места, уже зная, что ничего между ними не будет, он суше, чем ему бы хотелось, проговорил:
— Простите меня, милые дамы, и разрешите откланяться. Мне завтра рано вставать.
Бабушка, кивком подозвав его, прижалась щекой к его лицу, склонившемуся над ней.
— Надеюсь, ты уезжаешь ненадолго, — сказала она так спокойно, как будто это уже не раз обсуждалось между ними и было давно решено. — Я не спрашиваю тебя о точной дате возвращения, Алеша, потому что, какую бы дату ты ни назвал, мне все покажется слишком далеким. Понимаешь, в моем возрасте любая разлука грозит стать вечной… Но ты ведь не позволишь этой угрозе исполниться, верно?
Она смотрела на него любящим взором, в котором не было ни тени сомнения, ни тени укора. И, поражаясь самому себе — как же он мог, как смел вообще подумать о том, что уезжает от нее навсегда? — Алексей Соколовский выговорил легко и отважно:
— Конечно же, бабушка. Я дождусь в ноябре приезда театра Натали, помогу им в организации гастролей, закончу кое-какие свои дела — и, надеюсь, к Рождеству снова буду с вами.
Это внезапно пришедшее решение показалось ему вполне выполнимым. А в самом деле, почему бы и нет? Неужели режиссер Алексей Соколовский не заработает своим именем и своим талантом денег для двух-трех поездок в Париж в год? Тем более, вздохнул он про себя, что вряд ли оставшихся им с бабушкой для дружеского общения лет окажется слишком много…
— Эстель покажет тебе твою комнату, — привычным повелительным тоном сказала Наталья Кирилловна. — Прошу тебя, милый, простимся сейчас; завтра утром мне будет слишком тяжело расставаться с тобой после минутного прощания…
Очутившись в отведенном ему покое, не успев сказать ни слова Эстель, которая включила свет и мгновенно выскользнула из комнаты, он подошел к окну и, отворив створки, в последний раз вдохнул в себя чуть горьковатый, чуть пряный воздух осенней парижской ночи. Было бы лукавством утверждать, что он успел полюбить этот город, — Париж оказался слишком трудным, слишком многослойным для него. Но все-таки он дал ему если не счастье, то, во всяком случае, надежду на возвращение к этому счастью. А на что большее, кроме надежды, в сущности, может рассчитывать человек?…
Он думал об этом, пока не пробили часы и он не вздрогнул от ночной сырости. Думал, пока умывался в роскошной ванной, пристроенной к его спальне и содержащей в себе все, что может понадобиться мужчине, — от зубной щетки и бритвенного прибора до огромного махрового халата на золоченом крючке у двери. Думал, ворочаясь в незнакомой одинокой постели, призывая к себе сон и уже твердо зная, что заснуть не удастся…
А потом вдруг скрипнула дверь и он облегченно перевел дух, понимая, что все это время подспудно ожидал именно этого, одного-единственного звука. Теплое, нежное тело скользнуло к нему в объятия, женские губы коснулись его губ, а тонкий палец, приложенный к губам, перечеркнул все его попытки сказать что-либо.
— Эстель… — только и успел пробормотать он, но она уже сделала так, что слова оказались совсем не нужны, и, проваливаясь в блаженную сладкую негу, он только шепнул «спасибо», благодаря неизвестно кого — ее ли, Господа или судьбу? — за то, что надежда на счастье, о которой он думал сегодня, оказалась не напрасной…
— Скажи, ты знал, что я приду к тебе сегодня?
Даже в темноте он почувствовал, как Эстель улыбается, и, потянувшись к ней, зарывшись в ее теплые, медовые волосы, молча и отрицательно покачал головой в ответ. Ради всего святого, что он вообще мог знать?! Догадываться, надеяться, мечтать, это — другое, но знать наверняка!..
Правильно расценив его молчание, она прильнула к нему, насколько это было возможно, и задумчиво протянула:
— Мужчины не разбираются в женских желаниях и сердечных порывах… Неужели ты не понял, что я до последнего оставляла право выбора за одним тобой? Мне так хотелось, чтобы ты сказал мне хоть что-нибудь настоящее! Так хотелось понять, действительно ли я нужна тебе…
Холодок пробежал по спине Алексея, и он приподнялся на локте, всматриваясь в призрачно-бледное на фоне белой подушки, зыбкое в предрассветных сумерках лицо Эстель. Что ему сделать, как сказать, чтобы она поняла: все, происходящее сейчас с ними, и есть настоящее!.. Но, пока он подыскивал слова, она уже закусила упрямую губу и, искоса посмотрев на него мерцающими, будто от слез, глазами, проговорила:
— Ты не должен считать нас теперь связанными больше, нежели тебе бы этого хотелось. Мы взрослые, современные люди, не правда ли? И мы оба знаем, что у женщины и мужчины может быть масса поводов для того, чтобы оказаться вместе, и помимо неземной любви…
Он рывком приподнялся в постели и сел, охватив колени руками. Алексея вдруг испугала эта прямота Эстель, ее попытки во что бы то ни стало дать точное определение всему случившемуся. «Ну зачем ей это? — поморщившись, как от сердечной боли, подумал он. — Мы и в самом деле слишком взрослы для таких детских игр». Не хватало еще только, чтобы она и впрямь заплакала и сказала: «Я знаю, ты не сможешь меня теперь больше уважать…» Ноющим шестым чувством он знал, что она права — права сто, тысячу раз! — и чувства, как бы прочны они ни были, все-таки действительно нуждаются в словесном подтверждении. Но он не мог сейчас еще ничего сказать ей: привязанность к ней, любовное притяжение и в самом деле жили в нем, но слова о них не успели вырасти и окрепнуть в его душе, и ему, как всякому мужчине, нужно было время, чтобы взлелеять и вырастить эти слова, придать им силу и позволить наконец прорваться наружу сквозь шелуху извечного недоверия к женщине, сквозь груз его недавнего горя, старых обид и былых печальных непониманий…
А Эстель все так же лежала перед ним среди смутно белеющей, прохладной белизны постели, и брови ее были нахмурены, а тонкие пальцы нервно переплетены между собой. Он вздохнул, чувствуя, что пора уже наконец сказать что-нибудь, набрал побольше воздуха и — не успел: женщина стремительно и гибко поднялась, нетерпеливо высвободившись из плена ее кружевного белья, и, закручивая на ходу волосы в тугой узел, подняв с пола что-то невесомое и прозрачное, сброшенное ею несколько часов назад, пошла к двери.