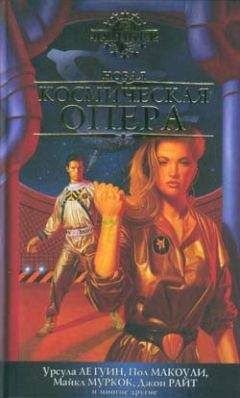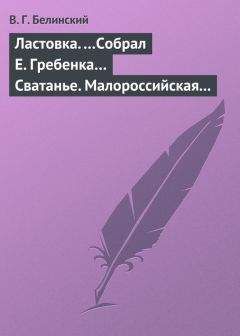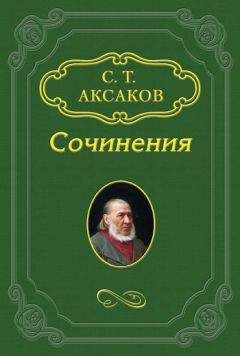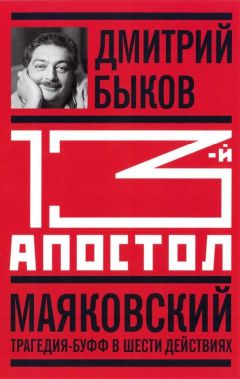Дмитрий Быков - Орфография
— Вишь, они говорили ему: отступися! Отступися, добром просим! А он — ни в какую: вы, говорит, утиль! Ну, они и кинули его в костер, в костэ-эр, по ихнему-то говоря: гори, говорят, разбойник ты эдакой. Твоим же салом тебя и по сусалам. Вот как болел за народ, а не то что сейчас.
— Да, эти-то гладкие ездют…
День был солнечный, ясный, с блекло-голубым, совсем уже весенним небом. Ослепительно, радостно блестела грязь, и кое-где обнажились мостовые. У часовни Ксении Петербургской толпились, как всегда, богомольные старухи и кладбищенские нищие; молодая заплаканная девушка долго стояла у стены, прижимаясь к ней то ладонями, то губами, — потом повернулась и быстро пошла прочь; за кого она просила? Ксению звали «скорой помощницей», Казарин любил легенды об этой истинно русской святой, любил и саму святую, в которой так; просто и ясно воплотилось все лучшее в его городе. Ему никогда не нравился Питер каменный, Питер административный, — чуть больше он любил город салонный, ресторанный и клубный, но какой-то частью души особенно сладко и болезненно чувствовал родство с окраинами, с их сырым простором и деревянными купеческими домами. Это был город нестрашных суеверий, тихих, невидимых миру слез, глубоких и скрытых страстей — тут случались примеры любви удивительной, надрывной, верной, тут ютилась кроткая нищета (часто готовая, впрочем, обернуться зверством), и Ксения Петербургская была хранительницей и заступницей этих мест. В ней не было ничего от грозной правоты русских святых, — но и в том, как она ночами выходила в поле, за город, молиться, и в том, как тайно носила кирпичи на леса строившейся тогда Смоленской церкви, и в том, как клюкой грозила мальчишкам, и даже в том, как говорила купеческим дочкам — «Беги на кладбище, там тебя ждет жених» (а в это время на свежей могиле лежит без чувств молодой вдовец), — была подлинная, ни с чем не сравнимая святость, и агностик Казарин безропотно и любовно склонялся перед ней. Он и теперь незаметно и неумело поклонился часовне Ксении Петербургской, но креститься не стал — не потому, что боялся быть уличенным, а потому, что не любил публичных жестов. Многие после переворота принялись демонстративно креститься на храмы, — но что на свете хуже дозволенной фронды?
В церкви отпевали какого-то старика, пришлось ждать; Казарин считал отпевание оскорбительным предрассудком, пение над гробом казалось ему бессмысленным; различив слова о том, что раба Божия Анна должна упокоиться в лоне Авраамовом, он попытался себе представить, что общего у Седовой с этим старым евреем, — и, коря себя за кощунство, никакого сходства не нашел. Может быть, ограничивая роль церкви в жизни общества, компомпомы были не так уж и не правы, — если б только это делали не они, совсем было бы хорошо; но эти мысли он отогнал тут же. Он твердо знал с самого начала, что оправдывать их нельзя ни в чем — от частных оправданий был всего шаг до сговора с дьяволом, а лик дьявола во всей его грубой простоте рисовался Казарину ясно, стоило вспомнить о декретах, реквизициях, упразднениях и разрешениях всех мировых вопросов путем ликвидации вопрошающих. От марксизма воняло — воняло с тех еще невинных пор, когда молодые русские профессора принялись поверхностно им увлекаться; от марксизма же, прошедшего через окопы, воняло так, что, даже если бы Ленин выучился словом излечивать чуму, Казарин сделал бы все, чтобы заразиться. Разумеется, это была только метафора, — теперь надо было жить, жить любой ценой, пусть даже и удерживаясь у зверя на спине, вцепившись обеими руками в его жесткую, колкую холку. Он посмотрел на Ашхарумову: хороша! Марья и в церкви была на месте, и что-то старорусское, иконописное проступило в ее лице. Как стремительно она меняется — платок, что ли, виноват? Спасительная протеичность, воплощенная органика: может, за это не тронут их обоих?
Клетка седовского отца виднелась издали; в ограде еле нашлось место, чтобы рядом с этим невероятным памятником положить дочь инженера. Первым говорил Хламида. Он говорил о хранителях культуры, чьи ряды редеют с каждым днем, об ордене, прячущем ковчег, о тайном братстве, оберегающем огонь знания от варварских орд… и о том, что ничего не пропадает… Один Ять, пожалуй, оценил бы его слова, — но и Ятя, верно, отпугнули бы эта расчетливая прочувствованность, дерганье усов, якобы в поисках единственного слова (давно затертого, насквозь книжного), эти слезы на ядовито-синих глазах.
После Хламиды, однако, заговорил Хмелев. Тут уж не было громких словес и всхлипываний, которыми так часто прерывалась речь писателя: скупо и сухо перечислив научные заслуги Анны Васильевны, скромного и честного труженика лучшей, без сомнения, диалектологической кафедры России, он почти сразу перешел к смутным угрозам, намекам и чуть ли не к призывам начать кампанию гражданского неповиновения. Начав скромно, он постепенно распалился и вскоре уже сам искренне верил (как всякий хороший лектор, способный убедить любого, и в том числе себя), что в смерти Анны Васильевны непосредственно виновны комиссары. Похороны на глазах превращались в митинг, — как и все в Петрограде в последний год: хлебная очередь, гимназический урок и даже свадьба. Впрочем, в последние тридцать лет российской истории не было стихийного бедствия, в котором не обвинили бы правительство; Казарин резонно рассудил, что большевики не заслужили никаких привилегий и должны разделять участь всех властей. Он почувствовал внезапный укол тоски, представив, как слушает эти речи Седова — если слушает, конечно; ни в какую загробную жизнь Казарин не верил, но по литераторской привычке к допущениям вообразил ее тихое удовлетворение. Конечно, она не возразила бы. Она удивительно легко покорялась любому начальству, и все ее работы были, в сущности, добротным развитием чужих открытий, — так о ней за глаза говорили в коммуне при жизни; сам Казарин о ее трудах понятия не имел. Она во всем брала сторону Хмелева. И теперь, когда он на глазах елагинцев и приставших по дороге бездельников производил ее в жертвы режима, она не возразила бы ни словом.
— И мне видится символ в том, — грозно закончил Хмелев, привычно чувствуя власть над аудиторией, — что на могиле этой жертвы — жертвы, увы, не первой и не последней, — высится железная клетка: в эту клетку заточено ныне любое проявление свободной мысли, в этой клетке томится теперь русская наука, от этой клетки нет спасения и в смерти. Перед нами простой выбор: доживать, довольствуясь гнилым мясом, которое нам бросают, и надеясь на пришлого освободителя, — или попробовать в последней попытке сломать эти прутья… и умереть, как умерла наша соузница.