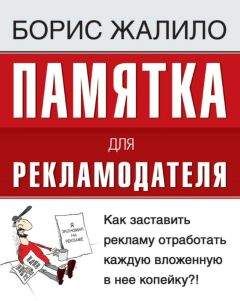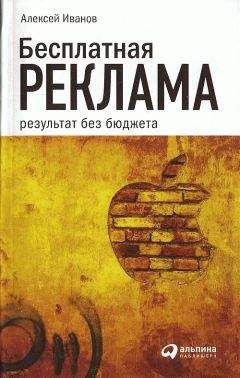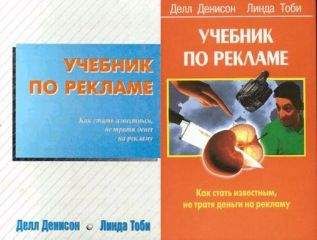Герман Брох - 1918. Хюгану, или Деловитость
И случилось так, что Хугюнау, снабженный подлинными военными документами, с повязкой Красного Креста на рукаве, которую он выпросил у сестры Матильды, получил под свое официальное покровительство майора, чтобы доставить его в Кельн. Носилки расположили на грузовике, рядом на своем чемоданчике устроился Хугюнау, майор ухватился за его палец и больше его не выпускал. Позже усталость сморила и Хугюнау. Он прилег рядом с носилками настолько удобно, насколько было возможно, положил под голову свой чемоданчик, и, прикасаясь плечом к плечу, они уснули, словно два друга. Так и приехали они в Кельн.
Хугюнау, как и положено, сдал майора в госпиталь, терпеливо подождал у его кровати, пока ему не сделают укол, предупреждающий новую вспышку беспокойства, затем он мог уходить. Но от командования госпиталя он вытребовал воинский проездной документ на свою родину, в Кольмар. На следующее утро он снял со счета в банке остаток активов "Куртрирского вестника" и день спустя уехал. Его военная одиссея, ставшая прекрасным отпуском, закончилась. Было 5 ноября.
86
История девушки из Армии спасения (16)
Кто способен быть более счастливым, чем больной человек? Ничто не принуждает его ввязываться в жизненные баталии, в его воле даже умереть. Его ничто не принуждает делать из событий, которые приносит ему день, индуктивные выводы, чтобы вести себя в соответствии с ними, он может оставаться погруженным в свои собственные мысли, — погруженным в автономию своего знания, может мыслить дедуктивно, а может и теологически. Кто способен быть более счастливым, чем тот, кто может мыслить, руководствуясь постулатами своей веры! Иногда я выхожу один. Я иду медленно, руки в карманах, и смотрю на лица прохожих. Это лица, на которых виден конец, но часто, да это, собственно, мне всегда удается, я открываю за ними бесконечное. Это в определенной степени мои индуктивные легкомысленные выходки. То, что я во время этих рейдов, которые, впрочем, не простираются очень далеко ~ только раз я добрался до Шенеберга, но очень сильно устал из-за этого, — никогда не встречал Мари, никогда среди лиц не всплывало ее лицо, она полностью исчезла, это едва ли расстраивало меня, она ведь всегда стремилась к тому, чтобы ее отправили в заграничную миссию, и это, наверное, случилось. Только я был счастлив и без нее.
Дни стали более короткими. А поскольку электричество было дорогим и погруженного в собственную автономию человека можно было отговорить пользоваться им без особых сложностей, то ночи у меня были длинными. Тогда у меня часто сиживал Нухем. Он сидел в темноте и почти ничего не говорил, наверное, думал о Мари, но вслух он никогда о ней не вспоминал.
Однажды он сказал: "Скоро закончится война".
"Да", — согласился я.
"Теперь будет революция", — продолжал он дальше.
У меня появилась надежда утереть ему нос: "Тогда религии придет конец".
Я ощутил в темноте его безмолвный смех: "Это написано в ваших книгах?"
"Гегель говорит: это бесконечная любовь, когда Бог идентифицирует себя с чем-то чуждым Ему для того, чтобы его уничтожить. Это говорит Гегель… и тогда придет абсолютная религия".
Он опять улыбнулся, легкая тень в темноте. "Закон останется", — сказал он.
Его упрямство было непоколебимым; я сказал: "Да, да, я знаю, вы ведь вечный еврей".
Он тихо проговорил: "Теперь мы отправимся в Иерусалим".
Я и без того уже довольно много говорил, поэтому дальше мы сидели молча.
87
Широкий корпус корабля, немого корабля, что берег обрести свой никогда не сможет, Вздымает борозду туманных волн, Что, берега не встретив, в бесконечной дали затихают, О, море сна, безумных волн небытия круженье! О, сон, несущий бремя потайное дня, сны — отраженье чувств и мыслей обнаженных.
О, сон, к открытости стремишься ты на судне том, Желания, о, ужас! — но еще ужасней кара Закона, возле которого, не встретив исполненья, они безмолвно затихают: Двух снов еще не знало мирозданье, чтоб встретиться;
МОГЛИ,Ночь одинока, живет она
Лишь твоего дыханья глубиной, надежду нашу выдыхая,
Что, просвещенные, когда-нибудь приблизиться мы сможем
К высоким образам, что кары смертной не боясь,
Мы сможем подойти в сиянье ярком
К ступени милости Господней.
РАСПАД ЦЕННОСТЕЙ (10)
Эпилог
Все было хорошо.
И Хугюнау, снабженный подлинным воинским проездным документом, бесплатно добрался до своего родного Кольмара.
Совершил он убийство? Осуществил он революционный акт? Ему ни к чему было задумываться над этим, он и не задумывался. Если такое и случалось, то он мог сказать только одно: его действия были разумными, и любой из уважаемых лиц города, к которым он по праву смел причислить и себя, поступил бы точно так же, поскольку существовала четкая граница между разумным и безрассудным, между реальностью и ирреальностью, и Хугюнау согласился бы максимум на то, чтобы не провернуть дело в столь редкие военные и революционные времена, но тогда было о чем жалеть. А глубокомысленно он, наверное, добавил бы: "Всему свое время". Но так не случилось, потому-то он никогда и не вспоминал о том деле и никогда больше и вспоминать не будет.
Хугюнау не вспоминал о том деле, и еще меньше он осознавал иррациональность, которой были наполнены его действия, так наполнены, что впору было бы говорить о прорыве иррационального; человек ничего не знает о рациональности, которая определяет суть его молчаливого действия, он ничего не знает об "ограблении снизу", которому он подвергается, он не может об этом знать, поскольку в любое мгновение своей жизни он находится внутри какой-то системы ценностей, но эта система служит сокрытию и связыванию всего иррационального, что является носителем земной эмпирической жизни: не только сознание, но и иррациональное является, по Канту, той средой, которая сопровождает все категории, — это абсолют жизни, который со всеми своими влечениями, желаниями, эмоциями идет рядом с абсолютом мышления, и не только сама система ценностей содержится в спонтанном акте определения ценностей, который является иррациональным актом, но и мироощущение, стоящее за каждой системой ценностей, лишено как в своем истоке, так и в своем бытии любой рациональной очевидности. И мощный аппарат познавательной приемлемости, возведенный вокруг положений вещей, имеет ту же функцию, что и не менее мощный аппарат этической приемлемости, в котором движется человеческое действие, мосты разумного, которые возникают снова и снова, служат единственно цели вывести земное бытие из его неизбежной иррациональности, из его "зла" к более высокому "разумному" смыслу и к той собственно метафизической ценности, в дедуктивной структуре которой человек может определить надлежащее место миру, и вещам, и собственным действиям, снова найти самого себя, но так, чтобы его взгляд оставался уверенным и непреклонным. Ничего удивительного, что при таких обстоятельствах Хугюнау ничего не знал о своей собственной иррациональности.
Каждая система ценностей происходит из иррациональных устремлений, а переформировать иррациональное, этически недействительное мировосприятие в абсолютно рациональное эта собственная радикальная задача "формирования" становится для каждой надличностной системы ценностей этической целью. И каждая система ценностей терпит неудачу при выполнении этой задачи, ибо методы рационального всегда лишь методы приближения, это метод кружения вокруг, который хотя и стремится с уменьшением каждого круга достичь иррационального, тем не менее никогда его не достигает, совершенно независимо от того, проявляется ли это иррациональностью внутренних чувств, бессознательностью этой жизни и переживания или иррациональностью данных условий мира и бесконечно многообразной формы мира, рациональное способно только разложиться на атомы. И когда люди говорят: "Человек без чувств — не человек", то в этом кроется кое-что от познания того, что существует неразрешимо иррациональный остаток, без которого не может существовать ни одна система ценностей и благодаря которому рациональное защищено от действительно несущей беду автономии, от "сверхрациональности", которая, с точки зрения системы, этически еще неприемлемее, еще "злее", еще "грешнее", чем иррациональное: это чистый, диалектический и дедуктивный, ставший автономным рациональный разум, который, в отличие от поддающегося формированию иррационального, никакого формирования больше не приемлет и который, приподнимая в своей застылости собственную логичность, проникает вплоть до предела логической бесконечности, — ставший автономным разум радикально злой, он отменяет логичность системы и, следовательно, ее саму; он инициирует ее распад и ее окончательное распыление.