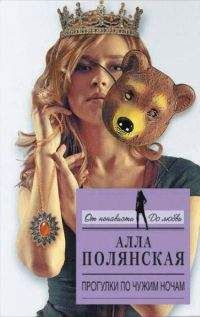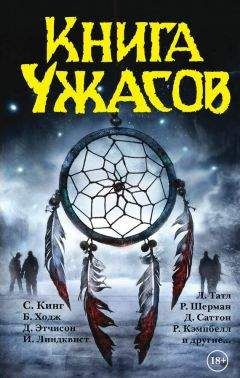Григорий Канович - Местечковый романс
— Роха! Зачем вы так обижаете мою маму?!
— Что с тобой? Уж и пошутить нельзя! — бабушка вдруг насупилась и в сердцах сказала: — С судьбой, как на базаре, не поторгуешься. Перейдут немцы литовскую границу, не перейдут… Будь, что будет. Такая, видно, наша проклятая доля — бежать с насиженных мест куда-то и от кого-то, когда и бежать уже некуда.
«Неспроста, неспроста, — подумала Роха, — заглянул Гедрайтис. Не за мацой, не за стаканчиком медовухи. Очевидно, взяв в союзники викария, он решил через меня предупредить всю нашу семью о грозящей опасности. Не зевайте, мол, готовьтесь к тому, что вас будут бить с обеих сторон — с немецкой и с литовской».
Не успел Винцас Гедрайтис попрощаться с бабушкой, как к ней гурьбой ввалились сын с женой, Мейлах с Малгожатой и Шмулик с неожиданным гостем — старшим лейтенантом Валерием Фишманом. А я, которому в этот вечер предстояло задавать вечные вопросы пасхального сказания об исходе закабалённых евреев из египетской неволи, плёлся в хвосте всей этой компании.
— Так я пошёл! — подстегнул самого себя Гедрайтис. — И так у вас засиделся.
— Куда ты спешишь? — остановила его Роха.
— Жена дома ждёт, беспокоится, наверное, она ведь не знает, куда я отправился, — косясь на Шмулика и русского лейтенанта, попавшего на еврейскую Пасху, пробормотал растерянный Гедрайтис.
— А не выпить ли нам, понас Винцас, в знак примирения по стаканчику? — задержал его Шмулик и рассмеялся. — Лично к вам у меня нет никаких претензий. Это же не вы ордер на мой арест выписывали, не вы на меня наручники надевали. В колонии я частенько вспоминал, как вы меня предостерегали: «не ори, мол, во всю глотку на каждом углу „долой правительство“, а шей брюки, шей сермяги и эти ваши лапсердаки. Нет выше справедливости, чем работа».
— Было, было. Храни вас всех Бог! — сказал «почти еврей» Гедрайтис, звонко чокнулся со Шмуликом и, довольный, удалился.
Бабушка Роха с трудом рассадила всех за праздничный, накрытый хрустящей белой скатертью и уставленный приготовленными яствами стол.
После смерти деда Довида застольем командовал мой отец, слабо разбиравшийся в последовательности действий и тонкостях пасхального седера. Он начал обряд не с самого зачина, а с той фразы, которую вызубрил ещё в хедере и почему-то помнил лучшего всего. Предвкушая вожделенную трапезу, отец скороговоркой задал мне главный вопрос торжества: «Чем эта ночь отличается от других ночей?» Я бойко, как по-писаному, ответил, что этой ночью Господь Бог навсегда избавил нас от египетского рабства, но мой ответ не вызвал такого единодушного одобрения и дружного ликования, как раньше, когда я ещё и в первый класс не ходил.
Бабушка Роха не сводила с меня налитых восторгом глаз. Мейлах и его невенчаная Малгожата о чем-то шушукались — наверное, о покинутом варшавском предместье. Шмулик со старшим лейтенантом обсуждали международное положение и вплетали в свой разговор не имена праотцев Иосифа и Моисея, который вывел евреев из Египта, а незнакомых Молотова и Риббентропа.
До начала праздничной трапезы я своим дискантом ещё успел в наступившей тишине спеть на иврите разученную с бабушкой пасхальную песенку «Беколь дор»:
В каждом поколении
Встают желающие
Погубить нас,
Но Господь благословен,
Он спасает нас от руки их.
Отец с помощью Мейлаха кое-как перевёл её с иврита на идиш Фишману, который выделялся за пасхальным столом военной формой и выправкой.
— Молодец! — воскликнул восхищённый песней старший лейтенант. — У нас в Гомеле ничего подобного ни в одном доме не услышишь. Вместо синагоги — мучной склад с красным флагом на крыше. Мацу в городе не купишь… Правда, приезжали к нам из Вильно богомольцы в чёрных шляпах, открыли на окраине без разрешения властей пекарню, стали печь мацу, но поплатились за это свободой. И раввина у нас нет, был один самозванец — то ли бывший завхоз, то ли товаровед из Горького, и тот помер от разрыва сердца.
— Кажется, у вас там и сам Господь Бог под запретом? — неожиданно спросил не отличавшийся словоохотливостью Мейлах.
— В Советском Союзе евреев охраняет не Господь, а Красная армия и товарищ Сталин, — пожурил беженца Шмулик, боевой дух которого в тот вечер не был так высок, как обычно.
На этот раз недавний арестант не ринулся высмеивать и разоблачать все россказни и байки о чудотворном влиянии Всевышнего на еврейскую судьбу. Его задумчивость и отстранённость вызывали у собравшихся за праздничным столом гостей смутные подозрения. Казалось, он знает какую-то тайну, которой ни с кем из родных не хочет делиться.
— По-твоему, Красная армия нас и от немцев спасёт, если те вдруг возьмут и вторгнутся в Литву? — вспомнив о сказанном «почти евреем» Гедрайтисом, поинтересовалась бабушка Роха у брата своей невестки. — Говорят, германцы уже подтягивают свои войска к нашей границе.
— Брехня! Сплетни! Это наши враги панику среди населения сеют, — разозлился Шмулик. — Москва и Берлин заключили договор о том, что нападать друг на друга не будут.
— Договор-шмоговор… Волк с волком решили поделить бедную овцу, вот пока и не задирают друг друга, — вонзила в него свой острый меч Роха-самурай.
— Сплетни, говоришь? Кто, Шмулик, ещё недавно мог подумать, что немцы войдут в Париж? Уже почти целый год от Айзика и его семьи писем нет. Живы ли они?.. — отец осёкся. — Сейчас ни за что нельзя ручаться. Мирный договор — это бумага. А с бумагой, когда приспичит, сам знаешь, что делают.
Пасхальный праздник вдруг принял совершенно не свойственный ему оборот. Стенка готова была пойти на стенку. Положение спасла миролюбивая мама.
— Милые мои, дорогие! Фаршированная рыба заждалась вас, и хрен выдыхается, и сладкое вино киснет. Пока мы живы, давайте кушать и веселиться.
Призыв мамы встретил всеобщее одобрение. Гости стали есть бабушкины блюда и лакомства. Особенно усердствовал Фишман, который уминал то, чего в Гомеле в глаза никогда не видел, — фаршированного карпа с хреном, паштет из куриной печени и хрустящую мацу.
— Вкуснотища! — всё время нахваливал он угощение. — Прелесть что такое! Всю жизнь буду помнить этот пасхальный вечер.
Может быть, Валерий Фишман всю жизнь и помнил бы этот вечер, но жить ему оставалось совсем немного, месяца полтора — их танковая бригада, расположенная вблизи Йонавы, в Гайжюнай, попала под бомбежку немецких «юнкерсов», и старший лейтенант из Гомеля погиб, не удостоившись не только воинских почестей, но даже обычного погребения.
Стемнело. Бабушка Роха зажгла большую керосиновую лампу. В её неверном, колеблющемся свете всё стало зыбким и не похожим на действительность, словно за столом собрались не живые люди, а привидения. Воцарившееся в комнате молчание усилило ощущение тревоги.
— Я вас всех отвезу, — сказал Шмулик. — За мной скоро придёт «газик». Но перед тем как мы с вами расстанемся, я сделаю одно короткое сообщение.
Все опешили. Выкрашенная светом керосиновой лампы в желтоватый цвет тишина затопила комнату.
— Я хочу со всеми вами попрощаться, — огорошил нас Шмулик. — Через неделю-другую надолго уеду. Меня командируют в Москву. На офицерские курсы. Увидимся не скоро.
— В Москву? На курсы? — переспросил испуганный отец. — И что ты там будешь делать?
— Учиться.
— Не поздно ли? — съязвила бабушка Роха.
— Учиться, как и умирать, никогда не поздно. Я буду учиться там целых три года. Новой Литве нужны новые, молодые кадры. Конечно, в отпуск буду приезжать, так что так уж легко вы от меня не отделаетесь.
Новость и впрямь была сногсшибательной. Шмулик Дудак — позавчерашний брючник, вчерашний арестант, нынешний заместитель начальника местного НКВД, и вдруг — офицер?! Да на нём шинель будет выглядеть, как на огородном пугале смокинг!
— Все готовы ехать?
— Да, — послышалось в ответ.
— Гиршке переночует у меня, — сказала бабушка. — А вы поезжайте с Богом!
— Кстати, о Боге, — лицо Шмулика расплылось в улыбке. — До отъезда в Москву я ещё успею сделать доброе дело — выступить в одном лице в роли попа, ксендза и раввина и обвенчать мою сестру Полину Дудак с Василием Каменевым, а чуть позже — и Мейлаха Цукермана и его несравненную Малгожату Бжезинскую. Все документы уже готовы. Можете поздравить их с супружеством и пожелать долгой счастливой жизни.
— Мазл тов! — провозгласила мама. — Как только потеплеет, устроим под открытым небом общую свадьбу!
— Мазл тов! — поддержали её все, после чего стали понемногу расходиться.
Мы остались с бабушкой вдвоём. Медленно догорал в лампе керосин. В глубине комнаты чернела сапожничья колодка, и на ней, как памятник деду, стоял чей-то ботинок с высокими отворотами. Спать мне не хотелось, и я стал помогать убирать с праздничного стола пустые тарелки. Бабушка, погружённая в раздумья, долго ни о чём меня не спрашивала, но вдруг с тихой яростью промолвила: