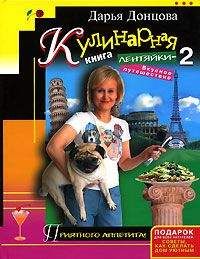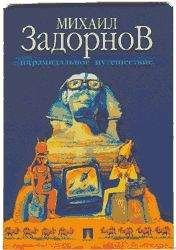Артур Япин - Сон льва
— Это реакция на длительный стресс, — объясняет Понторакс.
Его лицо находится так близко от Галиного, что их носы соприкасаются.
— Это всегда — стопроцентный рецепт, чтобы вызвать припадок эпилепсии.
Гала чувствует его дыхание на своих глазах. Она хочет сомкнуть ресницы, но не может. Верхние и нижние веки держат распахнутыми маленькие скобки. Ее голова привязана кожаными ремешками к операционному столу. Когда она хочет их потрогать, чтобы понять, что это, то обнаруживает, что руки ее тоже не повинуются. К кистям рук и лодыжкам прикреплена аппаратура, а вокруг бедер повязан пояс.
Как только она открывает рот, чтобы закричать, Понторакс вставляет туда деревянный мундштук, чтобы она ни в коем случае не поранила язык.
— Успокойся, малышка, — говорит дотторе заботливо. Он готовит раствор на высоком гранитном столе.
— К счастью, ты в лучших руках.
Она пытается рассмотреть аппаратуру, которая к ней подключена.
К ее голове подходят провода. Еще она чувствует липкую смесь, которой электроды прикреплены к ее голове.
— Понимаешь, — шепчет Понторакс, подходя к ней с пипеткой, — в том, что случилось, я упрекаю, прежде всего, себя. Кто тебе устроил такой стресс, я не знаю, но со мной ты не боялась расслабиться. Так что видишь, даже тот мужчина, который хочет для тебя только самого лучшего, может принести самое худшее.
Он прижимается губами к ее лбу.
— Да, — вздыхает он, любящий мужчина несет большие обязательства.
Он капает обезболивающий раствор, заботливо приготовленный, сначала в один ее глаз, потом в другой. Гала вздрагивает от холодных капель, падающих в сухие глаза. Потом Понторакс ставит операционный стол перед лампами на штативе и нажимает на рычаг. Гала пытается отвести взгляд, но мышцы больше не повинуются.
— Спокойно, моя милая девочка, осталось совсем недолго.
Вспышки непредсказуемы: сначала они идут в медленном темпе — то с одной стороны, то с другой, затем скорость учащается — и вот уже со всех сторон идет бомбардировка светом.
Я раньше срока обрываю обязательную фотосессию, следующую за вручением «Оскара», потому что мне плохо от непрекращающихся вспышек фотокамер. Теперь, когда напряжение спало, я снова начинаю ощущать свое тело. Голова не болит, но такое ощущение, что она как воздушный шар, чересчур сильно надутый. Сам бы я поехал обратно в гостиницу, но Джельсомина так чудесно сегодня выглядит, что я хочу, чтобы это был ее вечер. Хотя я понимаю, что поступаю неразумно, но иду с Джельсоминой отмечать событие вместе с Марчелло и матерью его дочки, великой французской актрисой, нуждающейся в ободрении, потому что она была номинирована на «Оскар», но не получила. Всю ночь к Джельсомине подходят люди. Они поздравляют ее с таким мужем, как я, и заверяют, что в те несколько минут, когда я благодарил ее, они смогли ощутить всю нашу любовь. Это все сплошь американцы, но Джельсомина ни секунды не сомневается в искренности их слов, и я знаю, насколько для нее важно, что о нашей любви еще раз было заявлено перед лицом всего мира.
Только под утро мы ложимся в постель.
— Ах, мой Снапораз, какую мы прожили жизнь!
Я обнимаю ее. Мы слишком счастливы, чтобы заняться сексом, поэтому только слушаем наше дыхание. Уже полвека как оно идет синхронно.
— Неужели ты и сейчас все еще не веришь в Бога? — спрашивает она.
И вскоре после этого засыпает. Я осторожно целую ее еще раз, не потревожив, но в ту же секунду в моем воображении возникает Гала. Их невозможно сравнить, но все же и она будет мною гордиться. Я шлю ей поцелуи и не сомневаюсь, что она получит его и ощутит мою любовь и на таком расстоянии. Я чувствую, как любовь бурлит в моих жилах, словно хочет разорвать их на части. Она стучит в моих висках. От возбуждения я не могу уснуть. Кроме того, мне еще мешают голоса под нашими окнами. Что бы это значило? Я выпрыгиваю из постели, снова слишком быстро, так что мне приходится подождать, пока комната перестанет вращаться перед моими глазами.
Потом я отдергиваю штору. В ту же секунду вспыхивают десятки ламп, и как только я снова что-то вижу, то обнаруживаю группу папарацци. Когда-то я их сам выдумал. Поставил эту публику на Виа Венето. Повесил им на шею фотоаппараты и снимал в своем кино. С тех пор они преследуют меня. Не является ли это лучшим доказательством того, что реальность всего лишь подражает фантазии? Эти журналисты стоят, по-видимому, на подъемной платформе, потому что наш люкс находится на последнем этаже «Беверли Хилтон». «Поздравляем, Снапораз!» — написано на транспаранте у кого-то в руках. Я машу им, глупо улыбаясь и радуясь, что, несмотря на жару, надел пижамную куртку. Я натягиваю ее как можно ниже. Атакующие меня папарацци опускают окно и изводят меня вопросами. Я пытаюсь его закрыть, но они препятствуют. Кто-то из них входит через окно в наш номер. Это Филастус Хёрлбат. Я говорю ему, чтобы он убирался прочь, но он упорствует и хочет, чтобы я сейчас же, посреди ночи, прокатился по его «Снапораме». Я хватаю его за воротник и тащу к двери. Открыв дверь, я вижу за ней красный мотороллер. Не настоящий, а наподобие машинок на аттракционах. Позади него стоят еще двадцать таких одинаковых машинок в ряд, и я вижу, как разные люди и дети вместе с папарацци рассаживаются в них, поторапливая меня, потому что всех разбирает любопытство и всем хочется уже ехать.
— Тирули, тирула, — поют они.
Их страх и возбуждение зажигают меня. Опасность привлекательна, иначе никто ни в жизнь не полез бы на американские горки. Я колеблюсь. Всю свою жизнь я ни разу не сопротивлялся искушениям, так с чего бы мне начинать теперь, на ее закате?
Питипо, питипа!
В одной лишь куртке от пижамы я забираюсь на «Веспу». Холодный кожзаменитель прилипает к моим ягодицам. Я ловлю свое отражение в зеркальце заднего вида. Вместо головы у меня — воздушный шар. Он начинает лопаться. Я хочу отвернуть вентиль, чтобы улететь, но мотороллер уже приходит в движение.
Труд всей моей жизни сжимается до нескольких минут. Вспышки камер отражаются на хромированной поверхности мотороллера. Словно иголки впиваются в мою туго натянутую кожу. Ослепленный вспышками, я уезжаю прочь от комнаты, где спит Джельсомина, и с бешеной скоростью исчезаю в черной дыре гостиничного коридора навсегда.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. DIRECTOR’S CUT[285]
Ты видишь, что темно.
Ты слышишь, что тихо.
Это не значит, что нет ничего, что можно увидеть или услышать.
Это не ракорд.[286] Камера жужжит.
Ты видишь лишь отсутствие света.
Ты слышишь лишь отсутствие звука.
Так я ощущаю себя сейчас. Здесь я — никто. Не то чтобы меня уже нет, просто я не являюсь кем-то. Я не умер, в это я не верю. Мертв тот, кто не живет.
Я всего лишь отсутствую.
Меня нет.
Я исчез.
Я потерял себя.
Внутри меня и вокруг меня — пустота. Не то чтобы в моем распоряжении безграничное пространство. Рамки как раз налицо. Лишь благодаря тому, что я ощущаю свои границы, я вижу, что внутри них и снаружи — ничего нет.
Это первые линии, которые проводит художник, рисующий комиксы, разделяя страницу на части. Страница уже не пуста, но ни картинок, ни текста пока нет.
Позвольте я начну все сначала.
Я лежу в своей собственной студии, Студии № 5, где я снимал все свои фильмы.
На стене позади меня натянут огромный холст, изображающий голубое небо.
И вот я лежу.
С самой первой страницы.
Это факты.
В остальном, я ни на чем не настаиваю, потому что там, где я нахожусь, все столь же истинно, как и неистинно. Весь этот сценарий я придумал от «а» до «я», но ни слова не солгал. Мои персонажи существовали в действительности.
Я был одним из них. Все целое — правдивая автобиография. Вопрос только: чья?
То, чего не было, не обязательно неправда.
Напоминает фильм: ты знаешь, что этого не может быть.
Что не значит, что это нельзя увидеть.
Так же со снами. Поэтому моя жизнь не могла бы быть сыграна нигде, кроме как в этих стенах.
После окончания церемонии вручения «Оскара», кажется, мне стало плохо.
Естественно. Я всегда говорил, что это путешествие для меня плохо кончится.
Я принадлежу Италии. Туда они меня и привезли.
Я открыл глаза в клинике на Монтеверде. Я лежал в кровати. Над моей головой, на потолке — гигантское изображение улыбающейся Джельсомины. По крайней мере, мне на секунду так показалось, но это была она сама, склонившаяся надо мной, безумно счастливая, что мои зрачки наконец-то сузились. Она поцеловала меня в лоб и вцепилась в мою руку, так сильно, словно мы сражаемся за право собственности на нее, и Джельсомина не собирается отступаться.
Я захотел выдернуть, но рука мне не подчинилась. Хватка Джельсомины причиняла мне боль. Я крикнул с возмущением, что ей пора бы научиться довольствоваться своими руками, но из моего горла не вылетело ни звука. Я попробовал снова, но не мог заставить пошевелиться ни губы, ни голосовые связки.