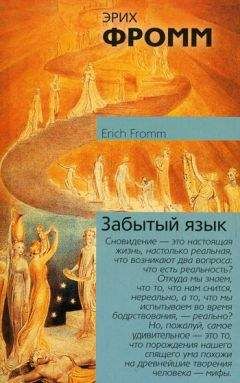Эрих Кош - Избранное
«Следственные органы уголовного розыска, в течение продолжительного времени пристально наблюдавшие за действиями дирекции выставки, на которой экспонировался кит, вскрыли целый ряд допущенных ею преступных злоупотреблений. Предварительные подсчеты показали, что общество и государство понесли убытки в размере нескольких миллионов динаров. Таким образом, перед нами едва ли не самая крупная махинация последних лет. На одной только продаже билетов расхитители заработали около двух миллионов динаров. Есть данные о том, что дирекция вошла в соглашение со спекулянтами, перепродававшими билеты, и получала с них проценты, чем и объясняются затруднения с билетами в первые дни работы выставки. Дирекция искусственно разжигала нездоровый ажиотаж вокруг кита. Приобретенные ею два роскошных автомобиля использовались руководителями в личных целях, и, пока кит беспрепятственно разлагался, соль, предназначенная для его охлаждения, разбазаривалась направо и налево, а в отелях устраивались приемы и кутежи. Если специалисты в самые кратчайшие сроки не попытаются форсировать события, страна потеряет несколько тысяч килограммов драгоценного китового жира. Граждане с полным правом могут ожидать, что расхитители понесут заслуженное и строгое наказание».
Вечером на улицах творилось что-то невообразимое. Возбужденные толпы белградцев горланили, жестикулировали, время от времени озабоченно поводя носом в сторону Ташмайдана, где догнивал кит. Утром наш бухгалтер, как всегда сидевший без гроша, высчитывал, по скольку прикарманили себе растратчики и во что обойдется убыток государственной казне, если из-за проволочек кита не сумеют употребить в дело и он пропадет. Снова разгорелись утихшие было жаркие дебаты о ките. С откровенной беззастенчивостью и бесстыдством ратовали за переработку кита на органическое удобрение. Он все равно, мол, разлагается, а нашему сельскому хозяйству не мешает подсобить. Были предложения переварить кита на мыло. Или перемолоть на рыбную муку, вполне пригодную для откорма скота, особенно крупного рогатого, и даже раздавались голоса за использование китового жира для добавления в пищевые продукты. Цана выразила пожелание пустить китовую кожу на производство обуви, а скелет попытаться сохранить и передать на хранение в музей на память о пребывании Большого Мака в нашем городе. Я углядел в этом проявление женской неблагодарности, бессердечия, наконец, жестокости. Это было все равно что пользоваться сумкой и туфлями или другими предметами дамского обихода, изготовленными из останков бывшего любовника.
Между тем запах гниения усиливался, распространялся по округе и становился поистине невыносимым. На выставку, по моим предположениям, никто уже не ходил, хотя я не имел возможности проконтролировать это из-за чудовищного удушливого смрада, не пускавшего меня дальше Скадарлий, несмотря на платок, затыкавший мой нос, и притупленное, как у всех белградцев, обоняние.
В один из этих дней я уехал по делам в Новый Сад, а вечером через Фрушку Гору и Иришкий Венец возвращался машиной назад.
Стояла тихая, безветренная погода. На Иришком Венце было свежо, а когда мы спустились в долину и от Батайницы повернули к Земуну, на нас пахнуло теплом весеннего дня, предвещающего наступление лета. Миновав Земун, мы оказались на берегу Дуная, откуда открывался вид на Белград, и, хотя машина мчалась с большой скоростью, я различил знакомое сладковатое благоухание белых лилий и жасмина, от которого сразу начинала болеть голова. В Новом Белграде воздух был пропитан крепким настоем бузины и дурмана, а едва мы переехали мост, в лицо ударило смрадом, сомнений быть не могло — тлетворное дыхание кита отравило всю атмосферу над Белградом. Зловоние распространилось и сюда, на склоны противоположного берега, и было столь сильно, что я удивился, как это утром его не ощущал. Видимо, я свыкся с этой вонью и с особой остротой почувствовал ее после того, как прочистились мои дыхательные пути свежим воздухом Фрушкой Горы. Я вспомнил, как утром в Новом Саде от меня шарахались в сторону прохожие, отвращенные, должно быть, тяжким духом, исходившим от моей одежды.
Я вышел из машины у вокзала, по мере продвижения Балканской улицей сгущалось непереносимое удушье. В нем смешались прогорклый рыбий жир и навоз, аммиак и болотный газ, сера и тухлые яйца — тысячи тухлых яиц — с ужасным трупным смрадом. Воздух был настолько плотный, что я с трудом поднимался к Теразиям, поминутно стирая пот со лба и рукой придерживаясь за стены. Казалось, улицы никто не подметал — повсюду валялся мусор, отбросы и бумажки. Меня окликнул владелец кондитерской. Он стоял на пороге своего заведения в белом, порядком запачканном фартуке. Витрину украшал огромный стеклянный сосуд с плавающим в нем, подобно утопленнику, большим, вздувшимся лимоном.
— Войдите, освежитесь и передохните! — сказал он, преисполнившись сочувствия к моей страдальческой бледности. — Должно быть, приезжий. Сразу отличишь. Много вас таких каждый день с поезда сходит. А мы здесь уже привыкшие!
Он подал мне лимонад со льдом, и я стал через силу отхлебывать его.
— Это кит, — сказал он. — От него такая вонь!
Я не выдержал — от этих его слов, от удушья, от вида тонких струек белесого пара, поднимавшегося над землей, и одурманенных зловонием фигур, бредущих по улицам в мареве ядовитых испарений, — волна тошноты подкатила к моему горлу, и, зажав рот обеими руками, я кинулся в заднее помещение, чтобы там вывернуть наизнанку свои внутренности.
10— Боже милостивый! Ну и вид! — такими словами встретила меня утром хозяйка, хотя сама она выглядела не лучше.
Хорошо бы сказаться больным и остаться дома, но у меня было намечено важное дело. Поэтому я сначала зашел в Коммунальный банк, а оттуда направился к себе в канцелярию. Людей на улицах почти не было, но и те, кто попадался мне навстречу, не радовали взор. Лица пепельно-серые, глаза бесцветные и запавшие, движения неуверенные. Да, это именно то, что я предвидел. Пришло справедливое возмездие. На город напали разом мор, чума, холера, тиф, дизентерия и сап, и теперь из-за тысяч, сотен тысяч грешников страдают и десятки невинных.
В канцелярии царила гробовая тишина. Цана сидела с компрессом на лбу, а кассир смотрел затравленным зверьком и был похож на ребенка, который порезался и испугался вида собственной крови. К одиннадцати часам улицы совершенно опустели, и тут я заметил, что на деревьях и на тротуарах нет птиц. Ни воробьев, ни голубей, даже мухи исчезли с окон. Все, что могло бежать, бежало, ища спасения. Словно средневековый город, пораженный чумой, умирал обреченный Белград, отрезанный от всего света, брошенный на произвол судьбы, на погибель. Я мог не вернуться с Фрушкой Горы, я мог задержаться там на несколько дней. Каждый на моем месте использовал бы такую возможность. Но я не хотел этого, хотя на мне не было вины. Хотя де кто иной как я, подобно древним пророкам Исайе, Иеремии, Иезекиилю, Данииле, Осии, Иоилю, Амосу, Авдию, Ионе, Михею, Науму, Аввакуму, Софонию, Аггею, Захарии и Малахии, предрек конец городу, а его жителям гибель, если не раскаются они и не отвернут лицо свое от Большого Мака. Но мог ли я оставить их в этот роковой час, в час тяжкого испытания? Нет, отвергнутый, поруганный, презираемый и осмеянный, я вернулся к ним, я, единственный из праведных, чтобы разделить судьбу с неверными. Вернулся по собственной воле. Чтобы погибнуть, как бог и герой. Но даже в этот смертный час служащие канцелярии не желали заметить и оценить моей жертвы — ну что в сравнении с ней мелочное тщеславие и недолговечная признательность людская? Рядом с ними моя жертва казалась еще более прекрасной и величественной, и я гордо выпрямился, приосанился на своем стуле, стараясь принять внушительный вид, насколько позволяла мне мучительная тошнота, доводившая до головокружения и готовая каждую секунду извергнуться наружу.
В полдень громкоговорители коротко оповестили:
— Трудящиеся по желанию могут покинуть производство и разойтись по домам!
Без каких-либо комментариев. Дикторша, как и прочие, потеряла дар речи.
Мертвенно-бледные, в холодном поту, мы молча задвинули ящики своих столов и молча, не прощаясь, хватаясь руками за стены, спустились по лестнице на улицу.
Но и на улице спасения не было. Солнце и смрад. Солнце и смрад. Страшный, непереносимый смрад непогребенного поля битвы, усеянного трупами. В воздухе, в небе и на земле. Смрад, смрад, смрад. Только смрад.
Не помню, как я приплелся домой и что со мной было потом. Проснувшись утром, я обнаружил, что лежу в своей постели. Тело ныло, как после тяжкой болезни или беспробудного, жестокого пьянства. Я распахнул залепленное бумагой окно, все равно служившее плохой защитой, и неожиданно для самого себя уловил дуновение свежести. «Может, ночью поднялся ветер? Это было бы нашим спасением», — мелькнуло у меня в голове, и в ту же секунду совесть чиновника заговорила во мне. Я собрался и отправился в канцелярию.