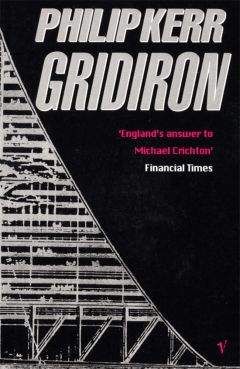Арман Лану - Свидание в Брюгге
— Да, действительно, это он. Прежде чем попасть в партизанский отряд, он служил у меня пулеметчиком во взводе. Упрямый осел.
— Значит, ты хорошо его знал?
— Еще бы!
— Помнишь историю с коровой, с Полуночницей?
— Помню. А что, он тебе очень интересен?
— Да.
— Но в нем не было ничего интересного. Решительно ничего!
Санлек вернул фотографию.
— Так ты, говоришь, видел его в Марьякерке? А я думал, он умер.
— Это было бы, пожалуй, лучше. Но он только попробовал отравиться. И впал в бредовое состояние.
— Да-да-да-да, Санлек покачал головой. — Слушай, что я тебе расскажу. В апреле сорокового года он вернулся к нам после партизанского отряда. Он скомпрометировал там себя ограблением: капитан Бло де Рени накрыл его. Когда вытряхнули его чемодан, то там оказалась уйма женских украшений, разных драгоценностей.
— Что не помешало ему ходить в героях.
Санлек печально улыбнулся.
— Еще бы, ведь не кто иной, как он, убил первого немца. И его наградили медалью за отвагу.
— Да, — сказал Санлек. — Разумеется… Смотри-ка, ты рискуешь потерять свою жену в озере Любви.
Они вышли на открытое место.
Жюльетта стояла на берегу озера — местного Онфлера, но меньших размеров и пресноводного — и крошила лебедям хлеб. Меж водяных лилий, огибая ледяные оконца, сновали дикие утки и, шурша, ныряли в камыши.
Двинулись дальше. У одной из лавчонок задержались:
The little lace shop
Echte Kanten, —
что в переводе с английского означало: «Мелкая торговля изделиями из кружева», — а по-фламандски: «Торговля натуральным кружевом».
Жюльетта выбрала несколько изысканных носовых платков, а для Домино — куклу, всю в кружевных оборках.
Лебеди собрались все под мостом и замерли, словно ожидая чего-то; несколько диких гусей спустились на воду, а их подруги нетерпеливо звали их обратно в небо.
— Смотри-ка, — сказал Санлек. — У лебедей на клювах вытравлен номер.
Каково! И на лебедях не забыли поставить клеймо!
Робер рассмеялся.
— Пьер Ихак уверяет, что у некоторых африканских племен, еще питающихся человечиной, белые вызывают отвращение, потому что они все учтены: стоит стащить одного, как его отсутствие сразу же становится замеченным.
— Действительно, гадость какая-то! — подхватила Жюльетта. К ней снова вернулось чувство юмора.
— Прелести цивилизации. Но, с другой стороны, может, и неплохо, что мы все «учтены», — сказал Робер и лукаво добавил, на бельгийский лад растягивая слова — «Как ты сама понимаешь».
Жюльетта улыбнулась. И, когда продавец кружев отсчитывал ей сдачу, — несколькими минутами раньше, — она тоже улыбалась.
Он говорил: «Пять раз по десять, шесть раз по десять, восемь раз по десять, девять раз по десять. Пожалуйте, мадам».
Нет, решительно, в их взаимоотношениях с Робером наступила пора оттаиванья.
А вот и улица Сент-Катлижнестрат, уже более широкая и просторная. Из домов выходили хозяйки, опрятно одетые, приглаженные. Кругом уже все было вымыто, выстирано, выбито, вычищено — утренняя уборка заканчивалась. Чаще стали попадаться витрины, очень красивые витрины. Магазин похоронных принадлежностей предлагал вниманию прохожих великолепные гробы, — отполированные, лакированные, сверкающие, два из них стояли открытыми, чтобы клиент смог оценить качество отделки, — гробы на любой вкус: черные, белые. Отделы гробов имелись и в магазинах мебели. Оливье еще раньше рассказывал об одном из таких магазинов, он располагался между «Электротоварами» и «Кондитерской». В Париже ничего подобного не увидишь, подумал Робер. А впрочем, чем лучше черные и белые, лавчонки Борньоля с фотографиями погребальных команд. Просто в Бельгии смерть продавали удобно обставленной, начищенной до блеска, практичной в употреблении, — не такой шумной и социально значимой, но более уютной. Вот и вся разница.
Они облокотились на перила моста и смотрели, как под ними у бело-красной пристани качаются на воде моторки, родные сестры веницианских vaporetti. В камышах на тине устроились плоскодонки, и вода вокруг них была в радужных пятнах от мазута и чуточку клейкая.
— Моторки не оправдывают себя, — сказал Санлек, — в некурортный сезон они не пользуются спросом, а жаль.
Торчавшая неподалеку землечерпалка простерла к небу свою уродливую руку с ковшом. Мало-помалу улицы становились оживленнее, хотя общий фон оставался приглушенным. Чаще попадались священники в круглых черных шляпах с широкими полями и с тесемочками, которые завязывались под подбородком. И этот-то город называют мертвым? Глупее не придумаешь!
На башне часы пробили одиннадцать.
Музей Мемлинга. Тяжелые сводчатые двери. Рядом — больница, где лежал Ван Вельде; в окна музея видно, как снуют санитары. Вид у госпиталя суровый, неприветливый, еще более неприветливый, чем в Марьякерке; трехэтажные здания, остроконечные крыши с коньком; на крышах прямоугольные зазубренные трубы, лестницы, массивные, способные выдержать самого могучего великана.
Музей Ганса Мемлинга так мал, что меньше его и не сыщешь во всем мире. Музей помещался в бывшем зале капитула, собственно, представляла его роспись алтаря. Произведение было поразительно свежо, неповторимо. Санлек млел от удовольствия, любуясь волшебным творением. Лакированная поверхность рисунков, и больших, и малых, спокойно выдержала натиск пяти веков. Должно быть, разгадку этого следовало искать в удивительном долготерпении фламандских хозяюшек, тайну которого они и передали, вероятно, своему мужу — художнику, чье творение стало вечным. Перед глазами Робера и Жюльетты клокотал поток жизни, так похожей на их и в то же время такой далекой. Они вновь почувствовали себя иностранцами, людьми из другого века, но фламандец Санлек, который упивался зрелищем великого творения и пытался растолковать его смысл гостям, опираясь на традицию и опыт ремесла, словно сам сошел с этих лакированных створок, лишь несколько увеличившись в размерах.
Всего шесть работ, но какой мир заключен в них! И больше всего поражает портрет простой девушки, каких здесь можно встретить десятки; портрет Марии, дочери Гийома Мореля: строгое нежное лицо, маленький круглый рот, голубые неяркие глаза. Поражает больше всего остального. Хотя, словно живые, склонились с дарами волхвы перед младенцем Иисусом в картине Поклонение волхвов, малые размеры которой не помешали ей вместить в себя многое, и все это объемно, осязаемо. Картина выполнена художником по заказу Жана Флоренса, хозяина этого молчаливого, открывшего им свои двери дома. Хотя они никогда не видели такой раки святой Урсулы и одиннадцати тысяч дев, где художник показал себя превосходным миниатюристом и в то же время не утратил своего величия. И хотя эта Мария как две капли воды похожа на сегодняшних, которые отправляясь в город, не раз проезжали на своих велосипедах мимо Святого Иоанна, не волнуясь тем, что за его стенами жил их двойник. Кто из них реальнее?
И что такое «живой»?
Роберу вдруг стало смешно: ему припомнилась история «научной изыскательницы» — гидши Оливье, благодаря которой он впервые оказался в этой тихой, сияющей зале. Как естественно здесь было взаимопроникновение настоящего и прошлого, жизни и смерти. В Остенде, в Марьякерке и в Брюгге свободно переливались друг в друга минувшее и сегодняшнее, нарисованное воображением и подлинное, жизнь и смерть, здравое и больное. Между ними установилось доброе согласие. Никаких помех, все шлюзы открыты!
Мария, дочь Гийома Мореля, безмятежно улыбалась.
Все, кроме Жюльетты, пошли дальше: она еще несколько минут оставалась в зале.
Каким образом этот народ ухитрялся быть одновременно творцом высокого искусства и тяжеловесных празднеств: чудо идеального, неземного, задумчивая хрупкость невинности и тут же разгул невежества, грубые гулянки, как в рождественскую ночь в Счастливой звезде. Когда вы заходите в Иерусалимский храм, в Брюгге, во время мессы, вы видите за спиной священника черепа, невольно на память приходят зловещие обряды индейцев. В этом — вся Фландрия. Такова ее суть: гробы, а рядом — пулярдки, иссохшие мученики и цветущие официантки, небесная музыка и гвалт, покой и ярмарочное веселье. Поистине загадочный народ, гуляка и тихоня, утонченный и вульгарный, целомудренный и разнузданный, самоуглубленный и болтливый, — народ, выставивший свои аванпосты у самой Соммы. И Ван Вельде ходил у него в статистах, вместе со многими другими: Робер Друэн признал в одном из палачей святой Урсулы родного брата Ван Вельде.
— Ван Вельде, — повторил Санлек, как будто что-то припоминая, — Ван Вельде. Забавная штука жизнь. Хочешь знать подробности?
— Разумеется. Мне как-то неуютно от сознания, что первый герой нашей грязной войны подыхает по своей собственной вине в сумасшедшем доме и никому не нужный.