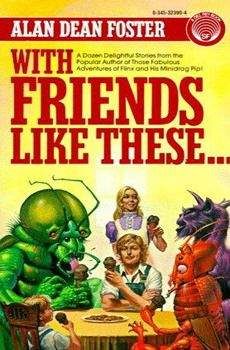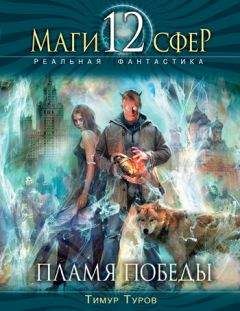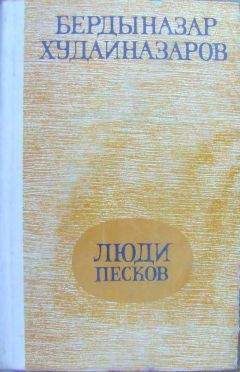Петр Проскурин - Имя твое
Федюнин удивленно захлопал глазами, потому что народ в жуткой реальности представился ему в виде огромного числа продолговатых сахарных корнеплодов, двигавшихся со всех сторон неохватного поля; у каждой свеклы были небольшие проворные ножки, шевелившиеся по-тараканьи быстро-быстро, и Федюнин едва не задохнулся от изумления, он уже ясно различал у приближавшихся свекольных человечков руки и ноги, глаза и узко надрезанные улыбающиеся рты; от неумолимости подступавшей орды ему стало жарко. Этот молчаливо надвигавшийся со всех сторон свекольный народец был уж слишком зловещ в своей многочисленности и зубатости; свекольные человечки бугрились уже совсем рядом, лезли друг на друга, пытаясь дотянуться тонкими мокрыми ручками до Федюнина, и вот уже эти омерзительно тонкие на ощупь ручки странным образом проникали своими мокрыми голыми ноготками под одежду, к телу, подбираясь к самым потаенным местам. Федюнин взревел от невыносимого ужаса и отвращения, вскочил, отряхивая с себя бегающих человечков.
— Тихо, тихо, председатель, — раздался рядом с его ухом басовитый знакомый голос, и Федюнин, по-прежнему захлебываясь все тем же удушающим маревом, скосил глаза, но ничего не увидел в темноте, лишь почувствовал, что его крепко держат за плечи. Ружья в руках у него как не бывало, от сознания своей незащищенности он совсем пал духом. Кто-то молча толкнул его, и он, подчиняясь, пошел, куда направляла его сильная, властная рука; в лицо ударил резкий, сырой ветер. Его подвели к вскрытому уже бурту, где несколько человек накладывали свеклу в мешки. Было тихо, и Федюнин в этой кромешной тьме, разумеется, не мог кого-либо узнать, тем более что у людей лица до самых глаз были чем-то обвязаны.
— А ну, помоги набирать, — раздался сбоку все тот же знакомый голос, и это, конечно, был голос Митьки-партизана; Федюнин рванулся в сторону, железная рука тотчас вернула его назад.
— Ты мне за это ответишь, — прохрипел Федюнин в слепой, бессильной ярости. — Ты от меня теперь под семью замками не схоронишься, я тебя… упеку.
— А ну, помоги, говорю, набирать, — так же негромко приказал Митькин голос, и те же сильные руки ощутимо тряхнули Федюнина, и он, мотнувшись туда-обратно головой, едва удержался на ногах.
— Не дождешься, хоть убей на месте… не стану ворам помогать, — в бешенстве обернулся на голос Федюнин. — Убивайте, не стану…
— Кому ты нужен? — со сдержанной издевкой ответил все тот же голос — Стой! Куда!
Федюнин кинулся бежать, но тут же был схвачен и немедленно укрощен, кто-то грузно навалился на него сверху, придавил грудью и лицом к земле, и сколько Федюнин ни пыхтел, наливаясь кровью, сбросить эту тяжесть с себя не мог; кто-то, отвратительно сопевший, легко ломал любую его попытку к сопротивлению.
Затем те же железные руки, как пушинку, оторвали его от земли и бережно посадили на солому. Тогда Федюнин от унижения и бессилия беззвучно заплакал и, пряча лицо от стыда, по-птичьи неловко нахохлился, уткнувшись в воротник плаща; какое-то странное безразличие к своему положению, ко всему на свете охватило его. Сидевший рядом с ним для караула с обмотанной тряпкой рожей, чтобы не быть узнанным, время от времени хорошо знакомым, опять-таки Митькиным, голосом утешал его.
— Брось, что ты, что, Федюнин? — говорил он. — Свекла — овощь такая: раз-два — и опять выросла, главное — здоровье береги, жизнь долгая. Ты потерпи, потерпи, легче будет. На печку залезешь, отогреешься… Эх, городской человек, а в такую темноту забрался… вот оно… боком и выходит…
— Ты сукин сын, Волков, что делаешь? — не выдержал такую муку Федюнин. — Думаешь, это тебе в партизанах? Война?
— Какой я тебе, к черту, Волков? — изумился все тот же знакомый голос.
— Кто же ты в таком случае? — заворочался Федюнин.
— Сиди, сиди, какая разница, был — и нету, вот тебе и весь сказ. Закури.
— Не хочу, — отмахнулся Федюнин и, заворотив голову так, что хрустнула шея, напряженно прислушивался к возне у бурта, пытаясь узнать голоса, но и это ему не удалось, все перепуталось. Час, два или все четыре прошло, он не знал; сидевший возле него и часто куривший караульщик поднялся, разминаясь, хрипло, прокуренно хохотнул.
— Теперь топай, председатель, — разрешил он. — Только гляди, крепко запомни эту ночку. Затеешь с народом драку, при любом повороте крышка тебе.
Федюнин, нахохлившись, с замиранием сердца ожидал, что последует дальше; промозглый ветер, усиливаясь, посвистывал у самой земли, в сырых, засохших ветках лебеды. Рядом никого не было; вскочив на ноги, оп долго вертел головой в разные стороны, но, кроме ветра и шороха соломы, так ничего и не услышал. «Фу, черт, может, это мне приснилось? — подумал он, мотая тяжелой от расходившейся крови головой. — Какая там чертова свекла, какой Митька! Ах, да, дед Макар… дед Макар, тот самый, умер…»
Не разбирая дороги, Федюнин тяжело побрел напрямик, через поле; сквозь раскисшие подошвы чувствовалась холодная грязь. Федюнин подумал, что теперь непременно разболеется. На душе стало еще паршивее, еще гаже; добравшись до дому, он кое-как разделся и, чувствуя, как горит голова, выпил целый стакан водки из непочатой еще бутылки, приберегаемой на всякий непредвиденный случай. Дрожа от озноба, забрался под одеяло и забылся в каком-то горячечном полусне, а наутро, к удивлению своему, проснулся здоровым и совершенно бодрым. Вся прошедшая ночь вспоминалась ему необычайно ясно и отчетливо, и он задрожал от задавленной злости. Работать здесь больше нельзя, подумал он. Какой-то сдержанный гул заставил его подойти к окну; он изменился в лице, подался за простенок, чтобы не увидели с улицы; как раз мимо по растоптанной в грязь дороге проносили деда Макара, и Федюнин почувствовал смутную и скупую тоску и обиду, что его не позвали и даже сумели обойтись без него. Мимо окон двигалось все село: старики и дети, мужчины и женщины; свежеоструганный, белый гроб, осторожно покачивающийся на сильных плечах парней, был сейчас как бы средоточием, центром этой толпы, и она медленно, плавно передвигалась все дальше и дальше за околицу, иногда задерживаясь и останавливаясь, чтобы дать старухам возможность почитать подобающие случаю псалмы и молитвы. Погода держалась хорошая, и холодное небо было почти без облаков; Федюнин видел знакомых людей, с которыми ему приходилось ежедневно сталкиваться по работе, отмечал он и совсем незнакомые лица; он понимал, что должен был быть в эти минуты там, среди них; сейчас бы торопливо одеться и пойти вслед за гробом, но свою оторванность от всего вокруг невозможно было преодолеть, и он это знал. Это была его окончательная катастрофа здесь, в этом селе, и он, заставив себя, оторвался от окна, отошел и тяжело сел на кровать. Медленно разворачивающаяся на дороге молчаливая толпа стояла перед глазами, это было как наваждение. Федюнин, крепко стиснув виски ладонями, затряс головой. Пришла хозяйская кошка, села напротив, поглядела на него зелеными глазами, открыла рот и сладко зевнула. Федюнин сбился с мысли и, нашарив подушку, метнул ее в кошку. Та взвилась, метнулась за дверь.