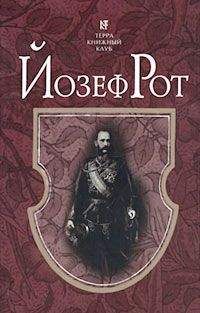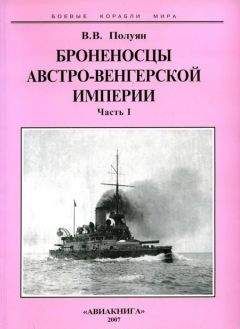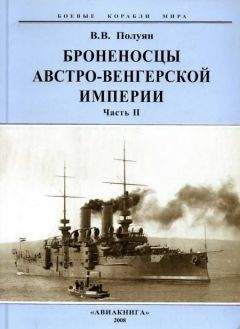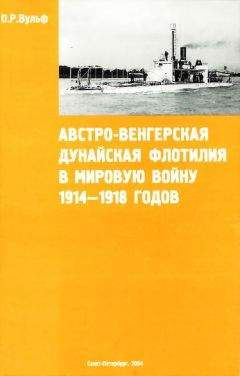Петер Ярош - Тысячелетняя пчела
— Что нового на свете? — спросил его как-то раз Само.
— Много чего, пан Пиханда, много! — вздохнул Гагош, внимательно наблюдая за мельником, сыпавшим зерно на жернова…
— А что именно, пан Гагош?
— Не знаю, что вы имеете в виду, только все бурлит. Народ в больших городах бунтует, не хочет мириться с нищетой. Да и с какой стати? Не все же могут вроде меня взять в руку посох, повесить на плечо пустую суму и податься в мир. Мне-то все одно: ни жены, ни детей. Под любой елиной может смерть прибрать, и никто по мне не хватится. Зла на свете много, пан Пиханда, и его все больше становится.
— Будет война, пан Гагош?
— Для войны, пан Пиханда, нужны три вещи: деньги, деньги и деньги!
— Кто надумает воевать, тот и деньги найдет.
— И то сказать! — подтвердил Гагош.
— А как насчет революции? — продолжал Само.
Нищий ухмыльнулся.
— Революции?! — Гагош растерянно покачал головой… — Все хотят ее и все боятся… Господам нужна одна революция, бедноте — другая, каждый хочет свою, а десять революций зараз быть не может. Одна проглотит другую. Быть революционером — тоже вроде бы стало модой. Нынче иной закричит погромче в клозете и уж считает себя революционером. Я, к примеру, поверил во французских коммунаров, а разве я революционер? Черта с два! Я только свою жизнь перевернул, и все. В мире от этого ничто не изменилось. Я мог стать адвокатом в Прешпорке или лекарем в Пеште, а вот заделался нищим… Так оно, пан Пиханда, такой уж я революционер. Себялюбец! Себя-то потешил, все отринув, и я вполне доволен тем, что принесет мне завтрашний день. Себя-то я переломил, а вот на большее меня не хватило. А мир от этого — я же говорю — ничуть не изменился. И потому остался я в одиночестве. Изменить свет или даже одного человека — для этого мало тешить только себя — для этого надо пожертвовать, может быть, жизнью, а я на это уже не гожусь! Ну, оставайтесь с миром, я пошел! Прощайте!
Само задумчиво слушал его, потом побежал вдогонку.
— Подождите, пан Гагош!
Он положил ему в суму кусок хлеба и сала.
— Благодарствую! — сказал грустно Гагош.
— Не забывайте нас!
Гагош кивнул и пошел. Само глядел ему вслед, раздумывая над тем, что тот поведал. И вдруг обнаружил, что мельница работает вхолостую. Он очнулся от мыслей и снова взялся за дело.
4
Настала осень.
Трудно приходилось Само Пиханде с женой и детьми: только и успевай поворачиваться. Ведь надо было скосить и обмолотить хлеб, выкопать картошку раньше других. Едва управились с осенними полевыми работами, как уже всякое утро начали объявляться перед мельницей возы с зерном. Подчас их набивалось с десяток. Крестьяне со всей округи стояли возле упряжек, покуривали, беседовали и ждали, когда придет их черед сгружать мешки. В эти дни Само молотил от зари до зари. А когда на два, на три часа задремывал, заступала его жена и старшие мальчики — Самко и Петер. Иной раз на мельнице пособляла и десятилетняя Эма или хотя бы нянчилась с грудным Мареком.
Иные нетерпеливые крестьяне, прождав час, принимались ворчать.
— Я-то чаял, тут будет меньше народу, — как-то заявился к Само сельчанин Козис, — а его вон сколько! С утра торчу и не знаю, отделаюсь ли до обеда. Поехал бы лучше к мельнику в Гибе или в Выходную, да вот, думаю, родня как-никак, куда уж тащиться!
— Ну и зануда! — покосился Само на Козиса. — Штопор у тебя в заднице, что ли? Дома небось все давно переделал. А хотел быть первым, так мог бы и пораньше встать. А то оставь воз тут, вечером сам его сгружу.
— Да ты что! — взвился Козис. — Оставишь, а потом пяти мешков не досчитаешься! Людей, что ли, не знаю? Я и сам бы мешок утянул, ежели плохо лежит.
— Тогда сторожи их и не ропщи! — отбрил его Само.
— Тяжко без дела! Я-то уж чисто заведенный.
— Дрова вот сложи!
— Дрова? — насторожился Козис. — А что дашь за это?
— Обмолочу бесплатно.
— Что ж, дрова, так дрова! — Козис двинулся к груде поленьев. — Небось знаешь, убить день на мельнице вхолостую — не по мне! Лучше б с мужиками лес сплавлял тут над мельницей…
Само махнул рукой и на Козиса — уже никакого внимания. Он так надсаживался с мешками, что аж пар от него шел, вся рубаха промокла. Козис сбегал во двор, оглядел свою подводу и, убедившись, что все в целости и сохранности, стал укладывать поленницу. Мелкий, но стожильный мужичишка, он работал истово и без надсады. Дома ни минуты не сидел сложа руки. А когда уж и вправду делать было нечего, выходил в поле, приглядывался к частоколинам, вбитым в землю вокруг клеверища, и если хоть одна на сантиметр выдавалась из ряда, перебивал всю изгородь. Или дома, бывало, упрется плечом в поленницу, развалит всю, потом наново складывает. К дереву питал особую слабость, мог без устали с ним возиться. Ярмарки ожидал с нетерпением, потому как давал в пользование торгашам за пять крон жерди для шатров. Тогда, против обыкновения, напивался у Герша. Из-за своей вечной непоседливости сделался знаменитым едоком. Похлебку предпочитал такую горячую, чтоб еще в ложке кипела. Хлебал ее жадно, смачно, а ежели она не ублаготворяла его, окрикивал жену: «Мара, что такое, что такое, похлебка до того холодна, что тебе в ней впору ноги мочить!» Вот и теперь он возился с каждым поленцем. Прямо цацкался с ним. Осматривал со всех сторон и в поленницу укладывал так, чтоб лежало как прибитое. По временам он поднимал голову и поглядывал на вырубку над мельницей, откуда мужики с шумом сплавляли лес. Их там было тьма-тьмущая. Он хотел крикнуть им или засвистать, да раздумал. Поленница росла, и Козис даже не заметил, когда за спиной у него остановился Само.
— Да, не больно ты наработал, — поддел его Само, похлопав по плечу.
— А ты как хотел? — насупился Козис.
— Ну пошли! — засмеялся Само. — Твоя очередь…
После обеда приехал с зерном приятель мельника — Матей Шванда. Привез на возу свою дочку Зузу и ее одноклассницу Эму Пихандову. Обе девочки, соскочив с воза, кинулись в кухню. «Мы будем делать уроки!» — сообщили они. «Сперва поешьте да присмотрите малость за Мареком, — сказала Мария. — С обеда не умолкает, а мне все недосуг побыть с ним на солнышке. Поýчите уроки и во дворе!» Девочки охотно согласились…
Матей Шванда, поздоровавшись с Марией, пошел на мельницу к Само.
— Ну как: молоть лучше, чем стены класть? — спросил он.
— Через год скажу, — ответил мельник.
— Вдесятером ладимся в Пешт, тебя будет не хватать!
Само лишь пожал плечами:
— Там, говорят, один кавардак да забастовки. Гагош сказывал. Так что особо не наработаете.
— Увидим, Пешт — город большой!
Погожий осенний день выманивал людей из дому. Не один хозяин в ожидании обмолота стянул с головы шапку и, прищурив глаза, подставил лицо солнышку. Эма и Зуза вынесли в кузовке в сад маленького Марека. Положили его на траву. Мальчик играл с муравьями и пестрыми лоскутиками. Девочки вокруг него дурачились, смеялись, гонялись друг за дружкой. У реки, в ивняке, стали играть в прятки. Вдруг над ними с вырубки донеслось громовое: «Береги-ись!» Девочки и головы не успели поднять, как в ивняк рухнул обрубленный и окоренный ствол дерева…
Эма перепугалась и затихла.
— Зузка? — крикнула погодя.
Ответа не было. Она подошла к месту, куда грохнуло дерево, и пронзительно завизжала. С воплем пробежала она мимо улыбающегося Марека и во дворе между подвод упала. Крестьяне подскочили к ней, подняли, стали приводить в чувство. Очнувшись, она оторопело глядела в сторону ивняка и беспрестанно твердила: «Там, там, там!» Из мельницы выбежали Матей Шванда, Мария и Само.
Мария погладила дочку по голове.
— Что случилось, доченька?
— Там, там! — повторяла Эма.
Припустились к ивняку. От вырубки вниз по откосу летели кубарем древорубы. Сбежали к реке и, обутые-одетые, пошли вброд. Мария сгребла в охапку Марека. Мужики, раздвинув кустарник, остановилсь над Зузкой.
Сильные мужские руки отвалили ствол. Матей Шванда склонился над дочкой. Она уже не дышала… Матей встал, сорвал с головы шапку, сунул в карман. Оторопело оглядел всех, словно не мог поверить в то, что видит перед собой. Все отворачивали головы, отводили глаза. Матей Шванда опустился на колени возле дочери — поднял ее на руки и пошел к своей подводе… Газды, древорубы и Само с женой двинулись следом. Шванда в замешательстве остановился у телеги, доверху набитой мешками. Мужики подскочили к возу и вмиг разгрузили. Матей положил мертвую дочку на телегу и только теперь предался горю.
Вечером древорубы сошлись в корчме у Герша. Расселись вдесятером круг стола, заказали палинки и в задумчивом молчании пили — узловатые руки на столе, головы опущены. Сидели немо и только пили. Время от времени то один, то другой словно всхлипывал от боли или вздыхал. Кто-то охнул. Кто-то жалостливо заматерился: «В бога душу твою…!»