Сон цвета киновари. Необыкновенные истории обыкновенной жизни - Цунвэнь Шэнь
— Что-то ведь нужно есть, пусть даже голова загорится — все равно ехать надо!
— Нужно что-то есть, гляди-ка! Да нешто у вас дома еды не хватает!
— Еда есть, да отец говорит, что молодежи нечего дома столоваться, работать нужно.
— У отца хорошо все?
— Ест, работает, с чего бы ему было плохо?
— Брат-то твой умер, и оттого отец убивается, как я погляжу!
Эрлао не ответил, лишь разглядывал белую пагоду позади дома паромщика. Он как будто вспомнил события того давнего вечера, которые повергли его в тоску. Паромщик несмело глянул на него, и лицо его расплылось в улыбке.
— Эрлао, моя Цуйцуй сказала, что одним майским вечером ей приснился сон… — произнося это, он наблюдал за парнем, и, увидев, что тот не выказывает ни удивления, ни раздражения, продолжил: — Это был очень странный сон, она говорит, что ее подхватила чья-то песня и унесла на утес рвать камнеломку!
Эрлао склонил голову набок, горько усмехнувшись, и подумал: «А старик-то умеет окольными путями ходить». Эта мысль словно просочилась в его ухмылку, и паромщик заметил ее.
— Эрлао, ты не веришь?
— Как же мне не верить? Ведь это я, как дурак, стоял на том берегу и всю ночь песни распевал!
Паромщик, не ожидавший такой честности, смутился и, заикаясь, сказал:
— Это правда… это неправда…
— Почему же неправда? Разве неправда то, что Далао умер?
— Но, но…
Паромщик начал хитрить только лишь потому, что хотел прояснить дело, но выбрал неверный путь, и потому Эрлао неправильно понял его. Но только дед собрался рассказать все как подобает, лодка причалила к берегу. Эрлао спрыгнул на сушу и собрался уходить… Дед, еще больше суетясь, позвал со своего парома:
— Эрлао, Эрлао, подожди, мне нужно тебе сказать… ты сейчас разве не говорил о том, что… что ты как дурак был? Ты вовсе не дурак, то другие будут дураки, если так тебя назовут!
Юноша остановился и тихо, произнес:
— Все, хватит, не нужно.
— Эрлао, я слышал, что ты не хочешь мельницу, а хочешь переправу, — сказал старик, — кавалерист сказал, это разве неправда?
— А если и хочу переправу, то что? — спросил парень.
Посмотрев на выражение его лица, паромщик неожиданно обрадовался и в избытке чувств громко позвал Цуйцуй, чтобы та спустилась к воде. Но он и не догадывался, что Цуйцуй отлучилась, поэтому и не отозвалась и не показалась в ответ на зов. Эрлао подождал, поглядел в лицо паромщику и, не сказав ни слова, ушел большими шагами вместе с носильщиком, обремененным товаром — желатиновой лапшой и сахаром.
Миновав холм над протоком, они зашагали вдоль извилистой полосы бамбукового леса, и тут носильщик заговорил:
— Носун Эрлао, посмотреть на то лицо, что паромщик состроил, так ты ему очень нравишься!
Эрлао не ответил, и тогда носильщик продолжил:
— Он спросил тебя, хочешь ты мельницу или переправу, неужто ты правда собираешься жениться на его внучке и вместо него заниматься паромом?
Эрлао засмеялся, а спутник его не унимался:
— Эрлао, вот будь я на твоем месте, то выбрал бы мельницу. С мельницы толк будет, в день семь шэнов риса и три меры отрубей.
— Когда вернусь — поговорю с отцом, — ответил Эрлао, — чтобы от тебя заслали сватов в Чжунсай, и ты получишь свою мельницу. А что до меня, то я думаю, заниматься паромом — это хорошо. Только старик уж больно лукавит, да еще и неуклюже. Далао из-за него умер.
Когда Эрлао скрылся из виду, а Цуйцуй так и не появилась, сердце паромщика оборвалось. Он вернулся домой, но внучки не нашел. Спустя какое-то время она появилась из-за горы с корзиной в руках; оказалось, она с самого утра отправилась копать корни бамбука.
— Цуйцуй, я тебе уж давно кричу, а ты все не слышишь!
— Зачем ты мне кричишь?
— Тут кое-кто переправлялся… один знакомый, мы заговорили о тебе… Я тебе кричу, а ты не отзываешься!
— Кто?
— Угадай, Цуйцуй. Не чужой… ты его знаешь!
Цуйцуй вспомнила слова, которые только что случайно услышала из бамбукового леса, и лицо ее залилось краской. Она очень долго молчала.
— Ты сколько корешков набрала, Цуйцуй? — спросил дед.
Та высыпала корзину на землю, в которой кроме десяти с лишним мелких корешков оказался только один большой лист камнеломки.
Дед посмотрел на Цуйцуй, и щеки ее вспыхнули.
Следующий месяц прошел спокойно. Долгие дни и белое солнце постепенно залечили душевные раны. Погода стояла как никогда жаркая, и люди занимались только тем, что потели и пили охлажденное вино, и никаких забот в жизни не оставалось. Цуйцуй каждый день дремала в тени у подножия пагоды: наверху было прохладно, дрозды и прочие птицы в зарослях бамбука на склонах убаюкивали ее своим пением, и, умиротворенная, она плыла вслед за пением далеко, до самых гор, и сны ей снились совсем нелепые.
Но в этом не было ее вины. Поэты умеют написать совершенное стихотворение о незначительном событии, скульпторы из грубого камня вырезают прекрасные статуи, художники пишут завораживающие картины — мазок зеленым, мазок красным, мазок серым; и кто же делает это не ради одной только тени улыбки, не ради дрогнувших бровей? Цуйцуй не могла ни в слове, ни в камне, ни в цвете выразить метания своей души, ее сердце только и могло, что скакать галопом из-за всяких непонятных вещей. Невысказанность подбрасывала дров в огонь ее пугающего и притягательного чувства. Неизвестное будущее волновало ее, и она не могла скрыть свои переживания от деда.
Дед же, можно сказать, все понимал, но фактически не знал ничего. Он понимал, что Цуйцуй благосклонно относится к Эрлао, но не знал, что творилось у того в душе. Со стороны Шуньшуня и Эрлао дело встало, но паромщик не унывал. «Нужно только все правильно устроить, — думал он. — Когда все по уму, то получится!» Не смыкая очей, он видел сны куда более нелепые, бесконечные и немыслимые, нежели его внучка.
У каждого переправлявшегося он спрашивал, как живут Эрлао и его отец, беспокоясь о них так, словно они были его семьей. Но вот же странность — он боялся повстречать сына держателя пристани. Как только случалось такое, он не знал, что сказать, только потирал руки, совершенно утратив всякое спокойствие. Эрлао с отцом понимали, почему так, но печальная тень погибшего отпечаталась в их сердцах, и они делали вид, что не понимают, и жили себе дальше как ни в чем не бывало.
Хотя ночью ему ничего не снилось, по утрам дед говорил внучке:
— Цуйцуй, мне вчера такой страшный сон привиделся!
— Какой сон?
И дед, пристально следя за ресничками Цуйцуй, пересказывал то, что накануне собственными глазами видел наяву. Стоит ли говорить, что эти сны на самом деле никого не могли испугать.
Все реки неизбежно впадают в море, а все разговоры, как бы издалека они ни начинались, все равно возвращались к тому, что заставляло Цуйцуй краснеть. Когда она совсем замыкалась и всем своим видом показывала, сколь смущена ее добродетель, старый паромщик пугался и спешил прикрыть пустой болтовней желание обсудить те самые вопросы:
— Цуйцуй, я не про то, не про то. Дедушка старый стал, глупый, смех один.
Иногда Цуйцуй тихо слушала его шутки и глупости, дослушивала до конца и улыбалась одними зубами. А иногда говорила:
— Дедушка, ты и правда глупенький у меня!
Дед не издавал ни звука; он хотел бы сказать: «У меня камень на душе лежит, да такой большой», но не успевал — его очень вовремя звали с переправы.
Стало жарче, путники приходили из дальних краев, неся на плечах корзины по семьдесят цзиней, и, наслаждаясь прохладой у реки, не спешили уходить. Они садились на корточки возле чайного чана у большого камня, обмениваясь трубками для курения и болтали со старым паромщиком. Много слухов и небылиц услышал тот из их уст. Многих из тех, что пересекали речку, пленяла ее прохладная чистота, тогда они омывали ноги и ополаскивались, и беседы с ними были дольше и содержательнее остальных. Кое-что дед пересказывал Цуйцуй, и она открыла для себя много нового. О том, что цены на товары выросли, о плате за езду на паланкинах и лодках, о том, как работают десять с лишним больших весел, когда плот сплавляется по порогам, как на лодочках курят самокрутки, как большеногие женщины калят опиум… чего в этих рассказах только не было.

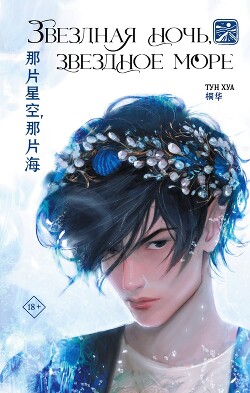

![Система [Спаси-Себя-Сам] для Главного Злодея (ЛП) - Мосян Тунсю](/uploads/posts/books/280201/280201.jpg)
