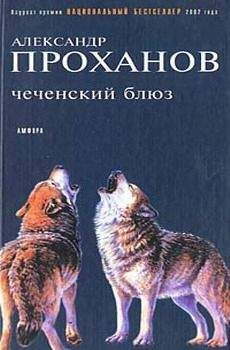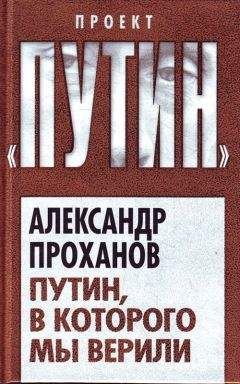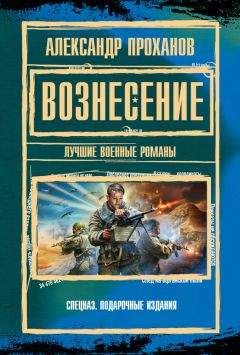Александр Проханов - Идущие в ночи
На дальних подходах к заводу начался минометный обстрел. Несколько мин, посвистывая и завывая, прилетело к насыпи и упало впереди, неярко рванув. Колонна залегла, будто повалился длинный неправильный строй домино, и вместо колыхавшихся высоких фигур на снегу пролегла неровная бугристая бахрома, словно провели плугом.
Басаев, лежа в снегу, связывался по рации с разведкой:
– «Арби»!.. Я – «Первый»!.. Нас обстреляли! Как у вас впереди?..
– «Первый»!.. Я – «Арби»!.. Все чисто!.. Били с левого фланга…
– «Арби», продолжай наблюдение!..
Пушков слышал косноязычные переговоры Басаева, лежа в рыхлом снегу, почти упираясь лицом в башмаки залегшего впереди автоматчика. Минометный огонь был тревожащим, с фланга полка. Не должен был вызвать подозрительность Басаева, а напротив, еще больше усыпить его бдительность. В полку не надеялись на плотность блокады, обстреливали уязвимые места наугад, отпугивая противника.
Колонна медленно поднималась, шевелилась, продолжала движение.
Басаев осматривал нефтехранилища, башни реакторов, связки трубопроводов, заводские строения и пути. Убеждался, что им нанесен минимальный вред. В эту войну, как и в первую, самолеты не бомбили завод. «Ураганы» не клали на заводскую территорию свои разрушительные снаряды. Русские и чеченцы по молчаливому уговору не размещали на заводских площадях свои подразделения, и бои и штурмы не коснулись завода. В этом была заслуга Магната, его влияние на военное руководство русских, которое обходило огневыми ударами промышленные зоны Грозного. В этих трубопроводах и хранилищах была нефть, темно-зеленая тягучая гуща, закачанная перед войной. Она принадлежала ему, Басаеву, принадлежала Магнату. Трубы, соединявшие серебристые башни и клепаные сферы хранилищ, соединяли его и Магната. Связывали их интересы, питали их дружбу, поддерживали их взаимные обязательства. Именно здесь, в этих серебристых шарах, похожих на яйца огромной птицы, было гнездо войны. Отсюда она вылупилась и взлетела, понеслась над Чечней и Россией. Оглядывая матку войны, деля между собой и Магнатом наполнявшую хранилища нефть, Басаев успокаивался. Его покидали подозрения, оставляли дурные предчувствия. Он был нужен Магнату, как и Магнат ему. А им обоим была нужна война, которая здесь, в Чечне, имела образ огромного горящего города, а в мировых банках, где хранились его счета, в хрустальных, отражавших облака небоскребах война выглядела как легкая электронная строчка шестизначных цифр, похожая на бесшумные зеленые пузырьки. И он улыбнулся, и волк на знамени увидел в темноте его оскал, улыбнулся белозубо и тонко.
Верка шла легко. Поспевая за мужчинами, поскальзываясь на плохо протоптанной тропе, она согрелась. Под платком, под теплым комбинезоном, на животе и груди у нее выступила испарина. Она старалась не выпускать из вида своего возлюбленного, благодарная за то, что взял ее в опасный поход. Она не спрашивала, куда и зачем они движутся, что ожидает их впереди. В глубине ее молодого тела образовалась завязь, крохотное мягкое зернышко, которое она различала по слабым звукам в крови, по таинственным перебоям сердца, по непрерывному волнению, похожему на счастливый страх и беспричинную нежность. «Вишенка» – так думалось ей, когда она прислушивалась к себе. Ее обступали вооруженные люди иной породы и крови, нежели она, иных законов и нравов, нежели те, что бытовали среди ее простодушной псковской родни. Поход, в который ее увлекли, мог превратиться в кровавое побоище. Железные резервуары, металлические шары и цилиндры источали едкие удушающие запахи, выглядели угрюмо и страшно. Но Верка улыбалась, всматривалась в себя, в крохотную капельку жизни, повторяя: «Вишенка!» Любила идущего впереди бородатого человека. Любила слабую жизнь, завязавшуюся в ее чреве. Любила окружающий мир, веря, что к ней и к ее любимому он не будет жесток.
Заводы кончились, еще некоторое время тянулась промышленная зона, склады, бетонные заборы, груды металлического лома, а потом все отступило, и колонна вышла в открытое поле с торчащим бурьяном. Небо стало больше, орнамент звезд усложнился, в нем возникли новые мерцающие узоры, туманности, млечные мазки, словно проплыла огромная, переполненная молокой рыба. И среди неба, над головами вооруженных людей, над санями с тюками и пулеметами, над хрипящими от усталости пленными, выложенный алмазами, блистал огромный ковш.
– «Арби», я – «Первый»! Пройди по реке! Осмотри мост! Будь внимателен!..
– «Первый», вас понял! Стою на реке! Все чисто!..
Сунжа зачернела среди белых выпуклых берегов, незамерзшая, медлительная и густая, покрытая легким пухом тумана. Льдистые кромки вморозили в себя сочный блеск звезд. Черная, затуманенная вода слабо мерцала, тускло отражая небо. Колонна свернула к реке, шла берегом, вспарывая наст. Тонкие пластины льда летели из-под ног, сыпались в воду и плыли, пропадая в дымке.
Пушков вслушивался в хрусты и звоны льдинок, вместе с колонной повторяя плавный изгиб реки, зная, что еще два таких поворота, и они втянутся в узкую пойму, начиненную минами. Уже теперь из черноты наблюдают за ними посты. В приборах ночного видения колышется длинная зеленая череда, словно встал и идет по берегу зеленый лес. Его товарищи наблюдают движение колонны, обмениваются неслышными позывными. Быть может, Сапега в белом маскхалате держит у глаз всевидящий ночной окуляр, направил его на Пушкова, видит его, окруженного врагами. Узнал, думает, как спасти, не допустить до минного поля. Дает приказ пулеметчикам открыть пугающий огонь по колонне, после которого чеченцы начнут разбегаться, а он, Пушков, кинется в черную реку и, обжигаясь, бурно дыша, поплывет на тот берег, к своим. Но было тихо. Пулеметы молчали. В ночные бинокли он был неотличим от колыхавшихся, словно зеленые водоросли, похожих друг на друга теней, которые, как по дну моря, тянули зеленые сани с зелеными черточками пулеметов.
Он вдруг вспомнил, как в детстве, проходя с мамой мимо магазина игрушек, увидел в солнечной нарядной витрине детский автомобиль, красный, лакированный, с хромированными частями, с выпуклыми хрустальными фарами. Стал просить маму, чтобы она купила ему машину. Но мама торопилась, что-то сердито ему сказала, и он удалялся от этой витрины, от чудесной, запомнившейся на всю жизнь игрушки. Теперь, идя по насту, он проносил вдоль черной чеченской реки этот солнечный образ, маму, Москву, игрушку.
Тонкая ледяная пластина вырвалась у него из-под ног, слетела к воде, и он услышал слабый всплеск, дорожа этим хрупким звуком, который улавливал его живой слух. Цеплялся за этот звук, хотел с его помощью остаться в этой жизни, наполненной шорохами, звонами, молчанием реки, накрытой прозрачным пухом испарений. Вспомнил, как еще недавно, направляясь на свидание с сыном, увидел плывущий эмалированный таз с аляповатыми цветами и листьями. Что-то говорил о нем сыну. Обещал пустить по реке этот таз, в котором, взлохмаченная, с мертвым оскалом, лежала бы отсеченная голова Басаева.