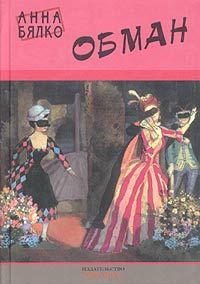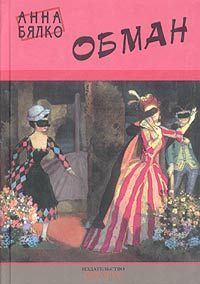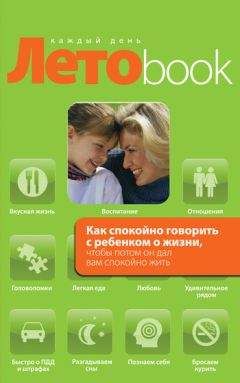Анна Берсенева - Ответный темперамент
Ольга посмотрела на него, наверное, с еще большим недоумением, чем недавно смотрела на девицу, которую он позвал в их дом.
– Андрей, послушай же ты себя, – проговорила она наконец. – Тебе кажется, что мы с тобой разговариваем об одном и том же? При чем здесь мое тело, твоя влюбленность, трепет, старость? Я тебе совсем про другое – я тебе про подлость говорю, ты слышишь? Есть вещи, которых делать нельзя, потому что они – подлость. Я всегда это знала, я думала, что и ты тоже это знаешь, но получается, нет. Нельзя выставлять для ублажения любовницы бокалы, которые тебе подарили на свадьбу. Это что, так уж непонятно? Ты не мешок с гормонами, Андрей, ты человек! – Она опомнилась и закончила уже спокойным тоном: – Ладно. Что тут объяснять? Я прошу тебя понять только одно: я не смогу жить с мужчиной, который оказался способен на все это. Никогда не смогу, даже если у тебя закончится эта твоя буря, а она когда-нибудь закончится, конечно, – жизнь не стоит на месте, или как там сказала твоя пошлячка? Зря ты надеешься меня до тех пор при себе сохранить, не стоит тебе быть таким предусмотрительным. У меня все кончилось. Все, что я чувствовала к тебе. И не вернется. И говорить об этом больше смысла нет. Лучше давай поговорим, где ты будешь жить. Твоя возлюбленная, я так понимаю, приезжая?
– Да, – кивнул Андрей. – Она из Минусинска. Я только поэтому ее сегодня сюда… Она раньше отдельную квартиру снимала, – стал торопливо объяснять он. – А потом хозяйка цену подняла, мне столько не потянуть, и она к подружке переехала жить, и…
– Ты хочешь, чтобы я посочувствовала ее проблемам? – перебив его, усмехнулась Ольга. – Пусть она решает их сама. Или с использованием тебя. Она для этого сюда и приехала. Ладно, Андрей! Все это так очевидно, что как-то даже глупо об этом говорить.
Она вдруг поняла, что им, собственно, и вообще не о чем говорить. Никаких житейских проблем, которые следовало бы совместно решить перед разводом, у них не было.
Пресловутый квартирный вопрос не портил им жизнь. Квартира на Ермолаевском, где они сейчас жили, принадлежала еще Ольгиному деду, доктору Луговскому. Маме с большим трудом удалось ее вернуть, когда ее отца реабилитировали, и разменивать эту квартиру никто не собирался. Но после родителей Андрея осталась «двушка» в панельном доме, Ольга с Андреем давно продали ее вместе с комнатой его бабушки, и в результате получилась хорошая двухкомнатная квартира у Рижского вокзала, которую они пока сдавали, радуясь солидному пополнению семейного бюджета и предполагая, что когда-нибудь там будет жить Нинка, уже с собственной семьей. Теперь, значит, там будет жить Белоснежка из Минусинска. Ну и ладно. Не вселенская катастрофа.
Не о чем им было говорить после двадцати прожитых вместе лет. Как странно!..
– Впусти Агнессу, – сказала Ольга. – Слышишь, под дверью мяукает? И уйди, я спать хочу. Завтра утром уеду в Тавельцево.
Глава 16
– И что, точно будут котята? Безобразие, а не кошка! Мало ли что у всех!.. Ладно, Оля, попрощаемся, а то все деньги проговоришь. От Маши тебе привет.
Татьяна Дмитриевна положила трубку и обернулась к сестре.
– Представь себе, Агнесса все-таки успела нагулять пузо. И ведь просила же Олю вовремя ей капли давать! Ну куда я котят дену?
– Мне привезешь, – улыбнулась Маша. – Будут здесь в саду бегать.
– В саду они и там могут бегать, необязательно их для этого во Францию везти. Ладно, родятся, потом видно будет.
Татьяна Дмитриевна только недавно привыкла к тому, что Мария, Маша, такая же родная ее сестра, как Нелька. Это произошло примерно после месяца жизни у нее, сначала в Париже и вот теперь в городке Кань-сюр-Мер на Лазурном Берегу. Все в этой их встрече тому способствовало: они жили вдвоем долго, без родственников, и, возможно, поэтому дистанция, которую Татьяна Дмитриевна прежде чувствовала в отношениях с самой младшей из сестер Луговских, на этот раз исчезла. Конечно, разница в возрасте была у них слишком велика – почти сорок лет, представить трудно! – и это все-таки ощущалось. Маша была почти ровесницей Оли, и Татьяна Дмитриевна относилась к ней если не как к ребенку, то все-таки как к молодой еще женщине, и смотрела на нее сквозь призму собственной старости.
«Какие все-таки странные игры затевает судьба», – подумала она, глядя на Машу.
Не вслух, а в мыслях, только для себя, она не стеснялась красивых слов.
– Ты подумала что-то важное? – спросила Маша.
Она поливала цветы, которые росли в старинной каменной вазе во внутреннем дворике ее дома, и обернулась к сестре ровно в ту минуту, когда та подумала о ней.
Татьяна Дмитриевна давно уже заметила, что Маша отличается необыкновенной чуткостью. Если в себе она сознавала здравость ума и твердость характера – может быть, излишнюю, в Нелли – беспечность, тоже, надо сказать, бьющую через край, то Маша… Маша вся была – тонкий трепет.
– Да, – кивнула Татьяна Дмитриевна. – Я подумала, как мало мы, три родных сестры, друг на друга похожи. Конечно, у нас разные матери, то есть у нас с тобой разные, но знаешь, мне кажется, дело не в этом.
– А в чем? – спросила Маша.
– Ты только не сочти, что я уже из ума выжила. Мне кажется, дело в папе. Его жизнь, его судьба менялись очень сильно, и мы, все три, родились на разных поворотах его судьбы. Даже, можно сказать, на крутых ее виражах. И все мы похожи на него такого, каким он был ко времени нашего рождения. Может быть, даже непроявленно был, внутри себя. Я непонятно говорю?
– Ты говоришь понятно. – Маша поставила лейку рядом с вазой. Та покачнулась на выщербленных временем камнях, которыми был вымощен двор; пролилась вода. – Для меня очень понятно. Как все-таки жаль, что мы с тобой прожили жизнь порознь, Таня… Это был горький и страшно несправедливый вираж. Я давно хотела тебя спросить: когда ты узнала, что папа жив?
– Через пять лет после маминой смерти. При жизни она так и не решилась мне сказать. И даже не решилась сказать, что в письме мне об этом написала. Найду письмо, не найду – судьбе предоставила решать, – невесело усмехнулась Татьяна Дмитриевна. – Даже не судьбе, а глупой какой-нибудь случайности. Если бы не пришлось мне с Нелькой тогда из Тавельцева уезжать, вещи собирать, то, может, и не нашла бы никакого письма. Бог ей судья. И за это, и вообще…
О том, что означает «вообще», они говорить сейчас не стали. Они давно уже об этом переговорили, и именно Маша сказала старшей сестре, что судить ее мать может только Бог. Конечно, спустя столько лет Татьяна Дмитриевна и сама уже воспринимала то давнее мамино решение если не спокойно, то безропотно. Но тогда, в пятьдесят пятом году… Строчки из маминого письма, его буквы, расплывающиеся от упавших на них слез, стояли у нее перед глазами и теперь: «Танечка, Неличка, простите меня, я хотела спасти вас, ваши жизни… Вас раздавила бы эта машина, перемолола бы…»