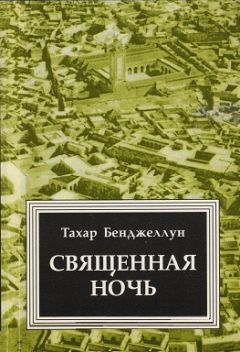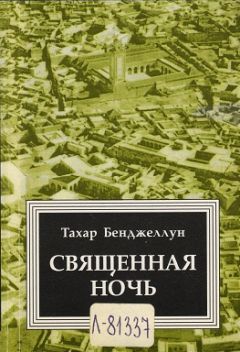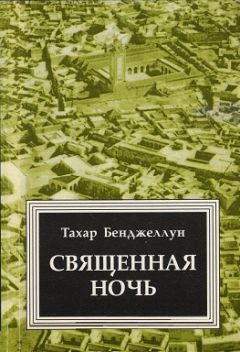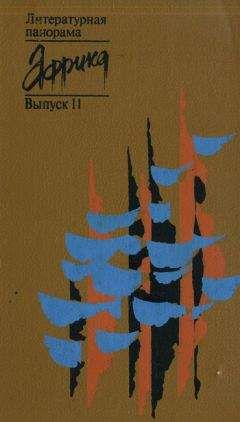Юхан Борген - Избранные новеллы
Да, конечно, человека прервали, он спрятал конверт в щели, которую, может, нашел в голой тюремной камере, а уж после кто-то вынес письмо на волю одним из тех сотен способов, какими ухитряются выносить из застенков послания обреченных.
Конечно, все это лишь догадки, игра воображения, фантазии - первое, что приходит в голову, когда нечто непостижимое вторгается в мирный обычный день, в теплое солнечное утро в саду, когда ты наскоро завтракаешь этим летним утром в северном крае у моря, где чайки вьются в небе и чуть приторно пахнут только что раскрывшиеся розы, - безоблачный, мирный пейзаж с человеком в центре. Но, увы, это отнюдь не значит, что миром дышит вся планета, по крайней мере до тех пор, пока в центре пейзажа по-прежнему человек.
В рассеянности, которую напускаешь на себя, уступив желанию как бы следить за собою со стороны, будто стремясь оправдаться перед неким вымышленным наблюдателем, он погасил сигарету. Но ведь, черт возьми, как раз сегодня вся семья уехала в город: скоро сюда нагрянут дети, да еще молодежь, а потому, видите ли, срочно нужно купить пояса для плавания и всякое такое прочее. Стало быть, нет никого, перед кем стоило бы разыгрывать недоумевающего исследователя.
И все же он не мог совсем отказаться от этой роли. В задумчивости прошел он в комнату с письмом в руке - образцовый проницательный детектив. На аккуратно расчищенном письменном столе (чрезмерная аккуратность свидетельство летней праздности - не радует сердца) он разгладил смятый листок. Бледные зеленоватые каракули то складывались во фразы, то вновь рассыпались на части. И вновь, как прежде в саду, когда ему впервые бросилось в глаза письмо, он принялся изучать подпись в смутной надежде, что она и есть ключ ко всему посланию - только бы ее разобрать.
Однако именно подпись не удавалось прочесть. Долго вертел он в руках листок и понял лишь одно: "Ирэн" и "Ивонну" надо отвергнуть. Выход один постараться сначала понять, о чем же говорится в письме, и, может, тогда станет ясно, кто его написал. Вечно одно и то же: сначала пробуешь так, потом эдак - и все тщетно. Он вздохнул, пробормотал что-то вроде "разберу после", не слишком на это надеясь и, что еще хуже, не столь уже пылко стремясь разгадать загадку. С годами у него появилась слабость - и он вяло боролся с ней, хоть сам корил себя за это, - бросать дела на произвол судьбы, откладывать, что только можно, и всего, что можно, избегать. Мелькнула мысль, ставшая уже привычной, он лишь всегда страшился додумать ее до конца: "Все это неважно, да и ничто уже не важно так, как мы воображали когда-то, - сами себе придумываем зряшные заботы". Лень... лень души, а может, и смутный страх. Перед чем? Перед всем, что может ворваться в будни, преобразить будни, попросту говоря - остановить, а не то и перевернуть их вверх дном. Само по себе это уже беда - брешь в броне привычек, затвердевшей за долгие годы, броне, ограждающей счастье, скудное счастье человеческих будней. Или, может, покой. Точнее, отсутствие беспокойства. Покой, тот, что с годами принимаешь за счастье, часто рушится от взрывов прошлого, в нем заложенного, скрытого, а следовательно, и забытого. Можно, конечно, сойти к берегу моря, попробовать ловить рыбу на блесну - глядишь, какая-нибудь рыбешка клюнет на приманку. Сказано - сделано. Только вот рыба не склонна клевать на приманку, что ж, это ее право. Попробовать искупаться, что ли, нет, и море не склонно его принять. Что ж, это его право. Он был полон терпимости и всепрощения, когда речь шла о рыбе, море и всем таком прочем. Он нуждался в терпимости: не судите, да не судимы будете. А за что могли бы его осудить, тем более сейчас? Вроде бы и не за что, сейчас-то уж, во всяком случае, не за что. Да и в те далекие минувшие времена, когда пал Париж, на нем тоже не было вины, это он точно знал: кто он такой, чтобы от него зависел исход борьбы при этакой крупной ставке... И уж если кому из друзей не повезло, он тоже не виноват. И если в ту пору он и впрямь приложил к чему-то руку, все равно результат был ничтожно мал, словно он, самое большее, шевельнул мизинцем - с годами лишь улыбнешься, вспомнив эти усилия. В ту пору, конечно, мы только и жили роковой битвой, что кипела вокруг, да, теперь можно улыбаться, а все же каждый из нас так или иначе расплатился за это. Впрочем, в ту пору расплата не казалась пустячной. Зато теперь только и скажешь: пустяки. И о нашем "вкладе в борьбу" так можно сказать - в борьбу, захватившую нас целиком. Пустяки.
Ныне здесь мир и покой - после стольких беспокойных лет он заслужен. О прошлом не говорят, даже не вспоминают. Возделываешь свой сад, ведешь свое дельце, читаешь свои книги - среди них те, что рассказывают о той поре. Книги эти уже не тревожат тебя: другие времена, другие люди оживают в них. А будни с их потоком новостей, вливающихся через газеты, телевидение, радио, это всего лишь отзвук былого. Даже взрывы бомб - всего лишь отзвук прошлого, далекий грохот бомб, звучащий с телеэкрана.
Он бредет вдоль берега моря, ни до чего ему как будто нет дела. На чистом, почти летнем небе сияет солнце. Море чуть наморщилось, не грозное, не враждебное, но и не мертвенно-призрачное. Только до этого ему сейчас и есть дело, только эту реальность он признает, беззаботно бредя вдоль берега нынешним утром, которое кто знает во что выльется после. Раздумывая о своей беззаботности, он чуть натужно радуется, да и можно ли не радоваться ей, помня о скверне, охватившей мир, о войнах и переворотах, о голодающих детях, о взрослых, которых пытают в звуконепроницаемых гаражах, где палачи обливаются потом, избивая дубинками и плетьми политически неблагонадежных профессоров, музыкантов, государственных деятелей, требуя у них сведений о единомышленниках, будто бы угрожающих режиму, медленно выбивая из них жизнь. Вот о чем думает человек, бредя вдоль берега моря в трех-четырех часах лёта от этих мест преступления. В мире не счесть таких мест, но сейчас он бредет вдоль моря и ничем не может помочь.
Мысль эта приглушает радость от сознания, что сам он в безопасности и покое, но и только - она не приводит его в отчаяние, не исторгает у него крик боли: вздумай он закричать, это было бы лишь грубым притворством. Да, вздумай он изображать по этому случаю скорбь, это было бы непристойной ложью и лицемерием при том, чем он занят сейчас. А занят он тем, что прогуливается вдоль моря, раз-другой пробует закинуть блесну, вытаскивает ее, зная, что закинул впустую, но нисколько не сетуя на бесцельность прогулки. Он не из тех, кто взял бы на себя бремя вселенской вины, не в его это натуре, да и вообще ни к чему. Где-то в душе его (в самом заветном ее уголке) тлеет тоска: ему не по себе от мысли о всех несчастных, о жертвах, не по себе от мысли, что сам он рад бы забыть о них и их муках. Но он не чувствует, что все это происходит сейчас, в этот миг, не чувствует истинного вживания, боли, которая, допусти он ее до себя, захлестнула бы его с головой, швырнула бы оземь. Бывают, говорят, люди, которые исходят кровью при одной лишь мысли о том, кого распяли на кресте две тысячи лет назад. Но он не из таких. Он может прослушать кассетную запись песен Теодоракиса, ощутить при этом мимолетную "греческую" боль, но разве может он, положа руку на сердце, поклясться, что при этом страдает? Напротив, в сердце -великая тишина, чреватая взрывом, как аура, которая окружает мину: пусть мина размером с картофелину, но тот, кто вздумал бы отбросить ее ногой, сразу лишился бы обеих ног, а не то и рук, челюсти, подбородка... Он может остаться в живых, пусть с одной лишь правой верхней половиной лица, пришитой к шее, в свою очередь прилатанной к обрубку тела, в котором по-прежнему бьется сердце, бьется, пульсирует, гоня кровь в другие обрубки, без иной связи между собой, кроме той, что обычно как раз и создает сердце своей упрямой работой, стимулируемой, скажем, электрическим прибором, в лучшем случае способным обслужить конечности с приживленными к ним кусками мяса, а также органами, взятыми у кур и свиней. Но смотри-ка, у самой кромки воды лежит какой-то предмет, круглый "миноподобный" предмет, издевательски похожий на человеческий череп; конечно, может, это самый что ни на есть обыкновенный поплавок от рыболовной сети, один из этих старомодных шаров, что, отслужив свое, порой валяются здесь в песке, день и ночь омываемые волнами; чем угодно может оказаться этот предмет - здесь по сей день плавают мины, на погибель людям замаскированные в свое время под невинные поплавки. Такие вот штуки, когда-то, видно, рожденные хитроумными головами в подземных лабораториях, но ныне давно уже устаревшие, нелепые, если взглянуть на них опытным взглядом эксперта... да, и все же их много плавает здесь, сколько раз приходилось об этом читать. А что, если тронуть шарик ногой, тронуть совсем легонько, взглянуть, как он перекатится, обнажив скрытую свою сторону, будто обратную сторону Луны, да, Луны, по какому такому праву Луна скрывает от нас свое лицо? В тот самый миг, когда нога коснется его, чтобы перевернуть, шарик откроет истинное свое лицо, но кому? Уж конечно, не тому, кто ударит его ногой, стремясь узреть обратную его сторону. Неужто нет границ человеческому любопытству? Да, поистине нет границ. Он тронул шарик ногой, но шарик этот упрям, он даже не шелохнулся, лежит себе в мокром песке как и прежде, не переворачивается, не открывает истинное свое лицо, так где же ты, взрыв? Я призываю тебя, призываю тебя, смерть, разом кончай эту игру, это неведение... Удар! Да, как на футбольном поле в былые дни, в дни детства. ("Бей!" - кричали ему с полупустых трибун. "Пли!" - и он рад был бы увидеть, как вратарь падает замертво, лишившись вдруг рук и ног, - только бы мяч угодил прямо в ворота.)