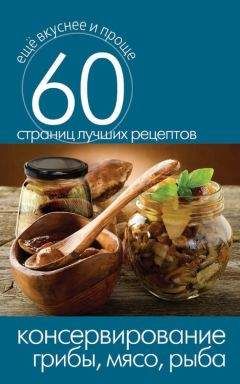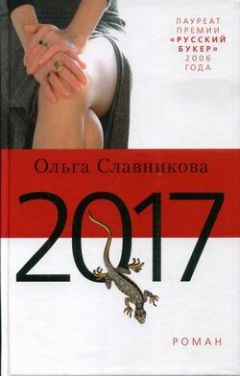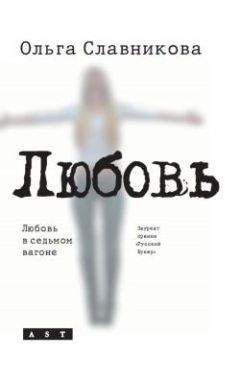Ольга Славникова - Вальс с чудовищем
Тем не менее, с Елизаветой Николаевной Эртель встречался все чаще и чаще. Он сделался назойлив.
Раз, сильно опоздав к назначенному сроку, вытоптав весь нежнейший первый снег у ее глухого подъезда, он все-таки попытался объясниться. Весь состоящий из сердцебиения и громоздких рук на столе, он призвал себе на помощь давнее-предавнее объяснение с Анной – тогда было лето, чужая скрипучая дача, стреноженные кони угловато, как-то по-шахматному, ходили по дымчато-пестрому лугу, глухо тряся бубенцами, – и в результате вместо объяснения получилось, что Эртель пригласил Елизавету Николаевну покататься на лошади в Парке Горького. Она с удивленной улыбкой отказалась, пожаловалась, что боится лошадей и вообще всех животных крупнее кота. Понадеявшись, что раз страшно, значит, немного интересно, Эртель позвал ее в мастерскую, мотивировав тем, что если она хочет чучело Басилевса, то надо же ей взглянуть на производство.
Она приехала неожиданно, подвезенная неизвестным на неизвестном авто: юная, как гимназистка, в неумело накрученных и уже развившихся локонах, в песцовой шапочке, обсыпанной бисером тающих снежинок и необыкновенно ей шедшей. Эртель, взволнованный, еле успевший сполоснуть руки от мертвых жидкостей (препарировал голову лося, спешно прикрытую закровяневшей тряпицей), устроил ей экскурсию. Из самого интересного в мастерской был черный кайман, застывший в энергичной армейской позе «упал-отжался»; кругленькая, словно надувная, зебра, по которой так и хотелось хлопнуть, чтобы она подпрыгнула; антилопа орикс, с мощной бычьей грудью и прямыми рубчатыми рогами; огромный, поставленный Эртелем на задние лапы белый медведь. Елизавета Николаевна с опасливым интересом трогала рога, зубы, горы жесткого медвежьего меха, заглядывала в звериные глаза, которые Эртель, как никто, умел делать живыми, со слезой. В ней не было дамской жалости к зверушкам, одно детское любопытство; Эртель никогда прежде не видел ее такой оживленной. После экскурсии он угостил ее, будто в зоопарке, ореховым мороженым, кстати нашедшимся в холодильнике. Сидя в тесной комнатке-кухне для персонала (деликатно убравшегося кто куда со своими закопченными пепельницами и литровыми кружками кофе), они болтали гораздо свободнее, чем в плюшевой гостиной. Елизавета Николаевна вдруг принялась рассказывать про свою бабку, бывшую в тридцатые и сороковые знаменитой летчицей, про маму, которую помнила смутно, только голос да бледные руки, витавшие над пяльцами. Разговор прервало появление громогласного медиамагната, заказчика медведя. Против обыкновения, Эртель не стал заниматься клиентом, поручив его заботам расторопных помощников, а сам повез Елизавету Николаевну домой, сквозь густой, тянущий вкось снегопад, по умягченным улицам, словно застеленным сбитыми простынями. Он навсегда запомнил, как Елизавета Николаевна помахала ему с крыльца, сколько радости и молодости было в этом жесте и как сверкнула между рукавом и перчаткой браслетка часов.
Она начала меняться, медленно и при этом неровно; то она казалась юной девушкой, нелепо одетой, но очень хорошенькой, улыбчивой, жемчужной; то превращалась в старуху семидесяти лет – нежную дряблую личинку, пристойно украшенную жеваными кружевцами. Перемены эти были лихорадочны и слишком скоры; казалось, в одном узеньком теле живут, сменяя друг друга, бабушка и внучка. По всему выходило, что в семье Елизаветы Николаевны, когда она была подростком, произошла катастрофа, повлекшая тотальный запрет на жизнь. Юное существо, лишенное права на ошибку, смотрящее прямо перед собой до странности тусклыми глазами, – такими становятся прилежные девочки, если их слишком рано перестают любить и опекать. Этот тусклый взгляд поразил Эртеля на снимке седьмого класса, где будущая маленькая вдова, самая маленькая из всех недооформленных девчонок, сидела в первом ряду, с руками на коленях, знакомо связанными в узелок.
Руки Елизаветы Николаевны, словно обклеенные папиросной бумагой, были испорченными и неловкими руками падчерицы – хотя внятных свидетельств присутствия мачехи в семье Эртель не уловил. Видимо, катастрофа не закалила, но оглушила послушную школьницу. Оглушенной она досталась пожилому мужу, чьи дополнительные подбородки и боязливую манеру брать карабин за ствол, будто кочергу, Эртель вспоминал теперь с каким-то едким отчаянием.
Теперь маленькая женщина как будто пыталась перейти через катастрофу – туда, где в ней еще не было рокового таланта сжигать в человеке все ресурсы доброты. Она приглашала Эртеля в участники перемен. Она много раз показывала ему семейный альбом – целый сундук, обитый медью и потертой кожей, едва помещавшийся на коленях двух близко сидящих друг к другу собеседников. Бабка-летчица на твердых карточках была по-крестьянски круглолица, с глазами белыми, как пепел, с двумя орденами на черной жакетке, похожими на два железных сердца, высаженных в ряд; от матери на фотографиях, как и в памяти Елизаветы Николаевны, осталась светлая муть, в которой угадывалась страшная худоба, какая бывает у очень больных или сильно пьющих людей. Фотографии словно запечатлели исчезновение женщины, буквальный уход в себя; на одной, бывшей четче остальных, можно было рассмотреть свисающий на нос слабенький локон и что-то скрипичное в движении руки, возносящей иглу.
– Мама всегда вышивала очень длинными нитками, – проговорила Елизавета Николаевна, как бы удивляясь сама себе, и было видно, что она совсем забыла об этом, а вот теперь вспомнила.
Эртель ждал, что Елизавета Николаевна расскажет что-то еще. Но она только вздыхала и щурилась; ее костлявенькая рука теперь подолгу задерживалась в руке Эртеля, и он сохранял угловатый оттиск с колючками колец в глубокой теплой перчатке. Он понимал, что перемены для Елизаветы Николаевны небезопасны. Пока она оставалась «пенсионерочкой», у нее был, по человеческим стариковским меркам, огромный запас времени, лет сорок или пятьдесят; старушкой она была почти бессмертна, сложным метафизическим образом защищена от гибели и серьезных болезней. Если же она возвращалась в отрочество и начинала оттуда, то времени у нее становилось катастрофически мало, потому что большой и лучший кусок жизни оказывался украден. Все-таки Елизавета Николаевна избавлялась от нажитых в юности пут стариковства. Старушечий мир, опасно скользкий, изобилующий предательскими выбоинами и крутыми ступеньками, вновь становился упругим под ее истертыми сапожками, и маленькая вдова все смелее предпринимала пешие вылазки, одна и под руку с Эртелем. Помогая спутнице пробалансировать по высокому поребрику, Эртель словно держал за крылышко неверное, порхающее счастье; Елизавета Николаевна смеялась и, роняя жаркую шапку с примятых кудерьков, спрыгивала на тротуар.
Между тем будущее становилось все более неопределенным. Теперь Эртель совсем не знал, что станется с ним и с маленькой вдовой. К обычной неизвестности завтрашнего дня, куда человек ступает не думая, вдруг добавились какие-то новые объемы, и казалось, что впереди, буквально в двух шагах, обрывается почва и разверзается бездна.
Началось с того, что обворовали соседей – тех самых, что скупали у Елизаветы Николаевны по дешевке ее драгоценности. Воры унесли и брошку, и часы – вместе с мерзлым кирпичиком денег, спрятанным в холодильнике среди мясных горбатых глыб, и пригоршнями металлоемких золотых украшений, которыми хозяйка, заслуженный работник советской торговли, набивала карманы старых пальто. Елизавета Николаевна заволновалась и даже сходила посмотреть на место преступления. Соседка, раскачиваясь из стороны в сторону, сидела возле разверстого платяного шкафа, должно быть, чувствуя себя многократно ограбленной во всех своих упитанных твидах и пожелтелых песцах, висевших с вывернутыми карманами и нелепо задранными рукавами. На кухне, возле холодильника, исходила водянистой кровью куча бурого мяса, точно оттаивал разрубленный мамонт, и участковый милиционер, с выражением привычного неудовольствия на юном курносом лице, писал протокол.
Приехав через несколько дней, Эртель заметил в квартире новый беспорядок, как бы горизонтальный по отношению к обычному вертикальному, связанному с падением предметов и оседанием пыли. Перетасованные, взъерошенные книги, косо застрявшие ящики сразу подсказали бы вору, куда и откуда хозяйка перепрятывала деньги. У нее должна была собраться изрядная сумма, и до сих пор Елизавета Николаевна не беспокоилась о судьбе своих припасов, а зря: когда она сидела дома, ее защищал монументальный засов, но в отсутствие ее вся надежда была на два расшатанных замка, примитивных и хлипких, будто заводные детские игрушки. Эртель потратил вечер, разъясняя Елизавете Николаевне, что такое банк, как открывают счет. Обеспокоенный, он не поленился привезти ей на следующий день несколько банковских проспектов, которые она прилежно изучила, кусая карандаш в усилии постичь выгодные принципы сложного процента.