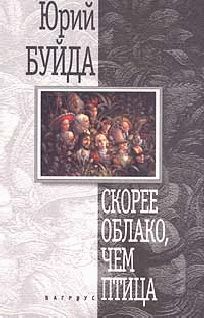Юрий Буйда - Все проплывающие
– Она романы, что ли, сочиняла, – недовольно пробурчал Леонтьев. – Глянь-ка… – Он поднял с пола листок бумаги: – «Я вас любил, любовь еще, быть может…» – Недоуменно посмотрел на доктора: – И чего это, а?
Шеберстов переложил палку в другую руку и решительно отодвинул Лешу в сторону. Отдуваясь, втиснулся в узкую щель, где стоял стул с гнутой спинкой, и сел. Выдернул из бумажного вороха пачку листков и принялся читать.
– Да что же это такое? – повторил Леша, растерянно глядя на исписанный старухиными каракулями листок. – Неужели она…
Шеберстов сердито посмотрел на него снизу вверх.
– А ты думал, что душу черт выдумал?
До самого утра они разбирали бумаги, которые Синдбад Мореход просила уничтожить и почти пятьдесят лет таила от чужих глаз. Каждый день, начиная с 11 ноября 1945 года, она переписывала от руки одно и то же стихотворение Пушкина – «Я вас любил…». Сохранилось восемнадцать тысяч двести пятьдесят два листа бумаги разного формата, на каждом – восемь бессмертных строк, не утративших красоты даже без знаков препинания – ни одного из тринадцати старуха ни разу не употребила. Она писала, видимо, по памяти и делала ошибки – например, слово «может» непременно с мягким знаком в конце. Слово же «Бог» – вопреки тогдашней советской орфографии – всегда с большой буквы. В низу каждого листка она обязательно ставила дату и – очень редко – прибавляла несколько слов: 5 марта 1953 года – «помер Сталин», 19 апреля 1960 года – «помер Федор Федорович», 12 апреля 1961 года – «Гагарин улетел на Луну», 29 августа 1970 года – «Петинька (это был внук) родил дочку Ксению»… Несколько листков были обожжены по углам, некоторые – порваны, и можно было только гадать, в каком душевном состоянии она была в тот день, когда в очередной раз писала «Я вас любил…». Восемнадцать тысяч двести пятьдесят два раза она воспроизвела на бумаге эти восемь строк. Зачем? Почему именно эти? И о чем она думала, дописав стихотворение – «как дай вам Бог любимой быть другим» – и аккуратно выводя «помер Сталин» или «помер Федор Федорович»?
Под утро Шеберстов и Леша растопили печку и принялись жечь бумагу. Уже через полчаса печка нагрелась, в комнате стало жарко. Оба чувствовали себя почему-то неловко, но когда Леонтьев пробормотал: «А какая разница, человека жечь или вот это…» – доктор лишь сердито фыркнул. Один листок – тот, который дала ему Катерина Ивановна, – Шеберстов все же сохранил, хотя и сам не понимал – зачем и почему. Быть может, лишь потому, что на нем – впервые – старуха не поставила дату, словно поняла, что время не властно не только над вечностью поэзии, но даже над вечностью нашей жалкой жизни…
Пять-пять-пять
Полюбите жизнь прежде смысла ее.
Ф. М. ДостоевскийШкола дураков была одной из достопримечательностей городка. В конце августа сюда со всей округи, главным образом из деревень, свозили странно похожих друг на дружку туполицых мальчиков и девочек, которые, цепляясь за своих матерей и непрестанно жуя булки, толпились в магазинах, где им наскоро покупали одежду и обувь подешевле, и осаждали парикмахерскую – По Имени Лев, каменея лицом, быстро остригал их наголо, после чего они тянулись за реку, к двухэтажному зданию возле Гаража, где и располагалась школа-интернат для умственно отсталых детей – олигофренов. Жили они обособленно, но иногда их выводили погулять на луг, тянувшийся до Детдомовских озер, и у нас появлялась прекрасная возможность вволю подразниться и пострелять из рогаток по дуракам. Поскольку их воспитатели не очень-то бдительно следили за стрижеными, ребята постарше умудрялись отбить от стада дурочку помиловиднее – такая обычно за конфетку-другую охотно соглашалась утешить терзания юной плоти.
Родители редко навещали детей, сбагренных в школу-интернат. Люся Логинова была исключением. Она приезжала к сыну Мине не реже двух раз в месяц, удивляя даже директора школы азербайджанца Адилыча, который и после третьего стакана, когда вообще-то речь его становилась невразумительной, связно выговаривал: «Вот чем отличается мать от еб твою мать».
Жила она в маленьком лесном поселке километрах в двадцати от нашего городка. Родители ее разошлись и уехали, оставив девочку на попечение тетки, которая, конечно, была только рада, когда за Люсей стал ухаживать чубатый красавец Костя Логинов (уж больно много мыла потребляла девочка, страсть как любившая мыться, словно в роду у нее уток было больше, чем людей).
Вскоре Люся забеременела, и, как ни выкручивался Костя, родители принудили его жениться на сироте. В первую же ночь загорелся сарай с сеном, где уложили молодых, но радость Костина была недолгой: мучившаяся животом Люся всю ночь просидела в малиннике, издали наблюдая за пожаром.
Муж пил и бил жену так, что вскоре у нее выпали все волосы и она уже не могла появиться на людях без косынки или платка. Первенец оказался дурачком, в чем, впрочем, винили не только Люсю, но немножко и Костю. Она и сама иной раз начинала заговариваться и бессмысленно и бессвязно частить – получалось что-то вроде «пыть-путь-пять», за что товарки по свиноферме и дразнили ее – Пять-пять-пять. У них было любимое развлечение в день получки – выхватить у Люси деньги и заставить ее побегать за хохочущими женщинами. Наконец обессиленная Люся бухалась на колени перед бабами и, театрально протянув руки к обидчицам, начинала со слезами упрашивать: «Девушки-голубушки, не ради себя прошу, но ради сыночка маленького, неразумненького…» Бабы отдавали деньги, плача, обнимая Люсю и называя ее вороной. Чтобы утешить женщин, она читала стихи собственного сочинения. Товаркам нравилось.
Люся была известной в поселке поэтессой. Однажды заведующий клубом одноногий старичок Животов, услышав ее стихи, велел ей выступить со сцены на концерте после лесхозовского профсоюзного собрания. А чтобы она поменьше боялась, налил ей водки в карандашницу. Выйдя на сцену и от волнения ничего перед собою не различая, она прокричала в пустоту:
Россия-мать, как я люблю тебя,
твои прозрачны реки и поля,
твоих людей
и птиц на небесах.
О как люблю во всех тебя красах!
Россия-мать, хоть ты люби меня!
Зал от неожиданности замер, недоуменно глядя на невысокую, щуплую, с пухлыми детскими коленками женщину, а потом разразился аплодисментами, «которым позавидовал бы даже Пушкин», как выразился потом старик Животов.
С того вечера Люсино выступление стало непременным номером всякого концерта в клубе, и всякий раз ее благодарили дружными рукоплесканиями.
Сосед Виктор Манохин, работавший на трелевочном тракторе, однажды даже сказал Косте Логинову: «Не мое, конечно, дело, но ты бы бросил ее бить, а то нервы у меня слабые – могу и заступиться». Узнав об этом, Люся перепугалась до икоты, но после этого Костя и впрямь стал бить ее реже, а потом и вовсе махнул рукой и уехал на заработки за Урал.
Оставшись одна – Миню уже сдали в интернат, – Люся жила тихо и бедно: свиноферма, да стихи, да поездки в город – к сыну. Завидев издали Виктора Манохина, убегала домой, запиралась на все замки и, сидя на полу в прихожей с закрытыми глазами, лихорадочно бормотала свое «пять-пять-пять», боясь, что сосед направляется к ней, а у нее не прибрано, и угостить нечем, и лифчик с разными пуговками – одна маленькая белая, а другая черная и крупная.
Когда же Виктор и впрямь сказал, что заглянет вечером на огонек, Люся вымыла пол с мылом, приготовила щи с мясом и даже пришила к своим застиранным трусикам кружева, – но, сняв косынку и внимательно посмотрев на себя в зеркало, решила Манохину не открывать и, как он ни бился в дверь, не открыла, а кружева с трусиков – спорола.
Через год вернулся Костя. Был он сер, пьян и нехорошо кашлял по ночам. Денег он не привез, а привез серый кусок кимберлита, «чтоб ты, дуреха, знала, из чего алмазы выколупывают».
На радостях Люся предложила мужу навестить сына, но Костя хмуро отказался: «Сама такого родила – сама и паси».
Люся села в автобус, который дважды в день проходил через поселок, и отправилась в гости к Мине.
Была холодная весна – с ясным небом и колким блеском полой воды, плескавшейся у дамбы, по гребню которой, ежась от ветра, гуляли Люся и Миня. Мальчик непрестанно жевал копеечную булку, купленную ему матерью в Белой столовой. Суетливо поправляя на сыне то пальто, то шарф, Люся торопливо рассказывала ему об отце, вернувшемся из диких сибирских краев, о поселковой жизни и о жизни будущей, которая непременно будет счастливой – хотя бы только потому, что она – будущая. Потом она достала из кармана скатанную в тонкую трубку бумажку, усадила Миню на скамейку и встала перед ним с театрально воздетой рукой. Она всегда приезжала к сыну с новым стихотворением. Мальчик сонно слушал, жуя булку, и на его щеках и подбородке шевелились приставшие крошки. Этим же стихотворением Люся особенно гордилась – во-первых, потому, что его ей заказал старик Манохин для надгробия погибшей внучки (и даже пообещал заплатить), а во-вторых, оно ей просто понравилось. Глядя поверх Мининой макушки, она прочла нараспев высоким голосом: