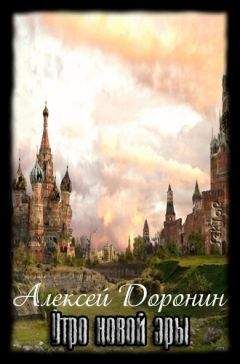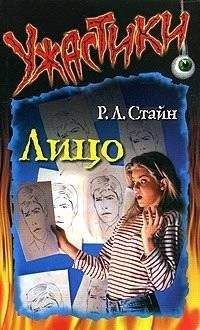Георгий Семёнов - Голубой дым
«Внимание, товарищи! — говорил он через минуту, ставя новую какую-то пластинку на диск огромной, «концертной», как она называлась, радиолы.— Внимание! Сейчас я объявляю белый танец. Дамы, приглашайте кавалеров! Но, товарищи, еще минуточку внимания, маленькое объявление! По окончании танца и во время танца просьба не забывать, что мужчины остаются мужчинами, а не превращаются в дам...»
Марина Александровна с улыбкой смотрела на него, а он с другого конца зала, через пустое пока пространство, от радиолы, стоявшей в углу, посмотрел на нее под смех отдыхающих, которым пришлось по вкусу это «маленькое объявление»,— посмотрел с виноватой и грустной усмешкой. «Ну что ж,— словно бы сказал он,— я здесь работаю, и люди сами хотят, чтоб я говорил эти глупости. Пожалуйста, я могу!»
«Господи! Как я устала от этой Танечки!» — вдруг подумала Марина Александровна и искоса поглядела на нее: та стояла, заложив руки назад и касаясь пальцами вытертой и глянцевито поблескивающей стены, и тоже смотрела на Бориса, щуря глаза, словно была близорукой. «Ну что, посидим?» — спросила у нее Марина Александровна. А Танечка нехотя и вяло ответила: «Мне все равно». «Ну и прекрасно! — подумала Марина Александровна.— А мне хочется посмотреть на нормальных людей».
— Не узнаю Бориса,— сказала Танечка, когда уже все танцевали и гремел быстрый и ритмичный фокстрот, и сам Борис, тоже подхваченный кем-то, танцевал в толчее, развлекая, видимо, веселым рассказом свою даму, избравшую его и теперь громко смеющуюся.— Неужели нельзя что-нибудь поостроумнее придумать?
— Он устал, деточка,— сказала ей Марина Александровна с еле скрываемой неприязнью.— Он работает и очень устал. Посмотрела бы я на тебя...
Объяснение это вполне устроило Танечку, и она согласно кивнула.
— Вообще-то да, конечно,— сказала она.— Я бы не смогла.
— Если тебя пригласят, ты пойдешь? — спросила Марина Александровна.
— Нет,— ответила Танечка.— Нет, конечно.
— Почему «конечно»? А я, например, с удовольствием. А если Борис? Видишь, он отлично танцует.
— Но я же в кедах.
— Плевать. Я тоже.
— Не знаю.
— А я уже соскучилась по людям.
Танечка ничего не ответила, а Марина Александровна опять поймала на себе взгляд Бориса, и на этот раз ей почудилось, будто Борис, танцуя, говорит ей с усмешкой: «Ничего не могу поделать: я «дама». Меня пригласили. Я дал вам возможность оглядеться, объявив этот дурацкий белый танец. Но мне чертовски надоело веселить свою партнершу». И она, скользнув взглядом по танцующей с ним женщине, подумала: «Да, я, конечно, понимаю, вам нелегко»,— и улыбнулась ему, когда он еще раз украдкой посмотрел на нее, словно бы спрашивая: «Ну как?»
Ей стало жарко, и она почувствовала, какая горячая кожа у нее на скулах. «Очень глупо,— сказала она себе.— Не может же он рассуждать именно так, как я тут рассуждаю за него. Почему я думаю, что он думает именно так, как кажется мне? И почему мне это кажется? Чушь какая-то. Совсем еще мальчишка, лет тридцать с небольшим. Впрочем, какой уж там мальчишка! Мальчишка...» Она опять спросила у Танечки:
— Ты как сама-то настроена? Идти домой или побыть еще тут?
Когда она искоса посмотрела на Танечку, она заметила, что та тоже словно бы машинально и задумчиво следит взглядом за Борисом.
— Хорошо,— ответила Танечка, выходя из задумчивости.
— Что хорошо?
— Давайте побудем здесь.
— Тогда пошли сядем.
И они сели на откидные стулья, рядком стоящие вдоль вытертых спинками стен. Но им не дали долго сидеть, и когда Борис объявил хрипловатым голосом: сейчас танцуем вальс», — Марину Александровну пригласил коренастый крепыш и уверенно закружил в вальсе, жестко обхватив талию. Крепыш молчал. А Танечке в этом смысле не повезло: ее пригласил шумный и веселый парень и старался развеселить девушку. «А почему вы такая грустная? — говорил он ей.— Нельзя грустить, когда кругом веселье. Как вас зовут?» Впрочем, трудно сказать: повезло или нет... Может быть, ей в этот вечер и не хватало как раз этих банальных и старых, как мир, вопросов: «А почему вы такая грустная?» и «Как вас зовут?» Может быть, одно лишь это способно было вывести ее из оцепенения или, во всяком случае, заставить усмехнуться.
Теперь Марина Александровна кружилась в вальсе, а Борис сидел на стуле возле радиолы и устало смотрел на нее, танцующую. На лице у него была добрая улыбка, и он словно бы говорил ей: «Вот теперь все правильно. Я работаю, а вы отдыхаете. Теперь каждый из нас занимается своим делом. И очень хорошо. Мне приятно работать, когда вы танцуете. Но я чертовски устал. Вы можете каждую минуту уйти, а я обязан сидеть, как привязанный, и обалдевать до десяти часов тридцати минут от музыки и от идиотской клоунады... «Весь вечер на манеже Борис»... Как это вам нравится?»
Во всяком случае, Марине Александровне в этот вечер легко было думать так за Бориса и так понимать его, видеть перед собой грустного и умного клоуна. «Хотя, впрочем, — думала она, — у и его тоже, наверное, есть какая-то программа, он и в прошлом году говорил, наверное, о греческих весталках, танцевавших когда-то на этом самом месте, где теперь танцуем мы...»
— Ты не устала? — спрашивала она у Танечки. Танечка порозовела и оживилась, и пропало бесследно ее оцепенение. Ей тоже казалось, что Борис смотрит на нее и любуется ею в усталой своей задумчивости. Она ждала, что он пригласит ее танцевать, но ни ей, ни Марине Александровне так и не удалось потанцевать с Борисом, который в этот вечер никого не приглашал.
Но когда они обе собрались уже уходить и подошли к Борису попрощаться, он встрепенулся вдруг и попросил:
— Ну подождите еще немножко, нам ведь вместе идти. Я тоже там, в поселке, живу. Я провожу вас. Все-таки поздно.
И они остались.
— Все-таки одним страшно идти по темноте, — сказала Марина Александровна, словно бы оправдываясь перед Танечкой.
А та ей отвечала:
— Конечно. Мы еще ни разу не ходили так поздно одни. — И тоже как будто оправдывалась.
Видимо, каждая из них чувствовала, что все стало так сложно и запутанно, что остаться опять вдвоем было бы для них мукой. Нужна была какая-то разрядка, нужен был кто-то третий.
И третьим по воле счастливого случая стал Борис.
— А почему бы нам не пройти по берегу? После шума послушать тишину. Сегодня днем море было белое, как молоко. Обратили внимание? Облака в небе сплошным туманом, а море от этих облаков белое. Я, между прочим, люблю, когда оно такое тихое. В этом есть какая-то счастливая случайность — все ждут, чтобы море утихло, но никто не верит в это... А оно вдруг и замрет, как сегодня. На удивление. Вы посмотрите,— говорил Борис, когда они вышли к морю, — ни единой складочки на воде.
Море в этот вечер было и в самом деле спокойным и непривычным. Но вдруг мягкая и легкая волна неожиданно качнула кромку воды, без плеска и без шума накрыла ближние к воде камни и откатилась, а потом еще несколько тихих вздохов издало море и снова замерло.
— Что это? — спросила Танечка удивленно.
— Наверно, где-то далеко прошел пароход, — ответил, улыбаясь, Борис. — Это его волны.
— Как странно! — шепотом сказала Танечка. — Парохода не было и нет, а море вздохнуло.
— Пароход был.
— Я понимаю,— согласилась Танечка. — Очень далеко был, мы его не видели.
— Вы знаете, — сказал вдруг Борис, остановившись,— человек я небогатый, но у меня в кармане завалялась пятерка. Вы пробовали когда-нибудь мускатное шампанское? Новосветовское? Нет?! Тогда нужно сейчас же вернуться к столовой, купить в киоске бутылку и выпить за пароход, которого не было и который был. Как вы на это смотрите?
— Мы тоже люди небогатые,— сказала Марина Александровна,— поэтому я предлагаю выпить эту бутылку на троих, как настоящие пьяницы... Только так. Мы внесем три рубля, свой пай, так сказать. Не иначе. Но ведь все закрыто? — проговорила она вопросительно.
У Бориса была еще надежда, что буфетчица Валя не ушла, а если она не ушла, то ему-то она обязательно даст бутылку шампанского. Когда они, посмеиваясь и пошучивая, подошли к киоску, изнутри, из-за дощатых его ставен, сквозь щели пробивался свет. Борис, обойдя круглый киоск, постучал в дверь и, назвавшись, был впущен буфетчицей внутрь киоска и вышел оттуда, держа за горлышко темную бутылку, украшенную золотистой фольгой и золоченой этикеткой. Марина Александровна и Танечка ждали его в отдалении. Он сказал, что мускатное они больше нигде не попробуют и что быть в Крыму и не попробовать этого шампанского по меньшей мере стыдно. От трех рублей, которые приготовила Марина Александровна, он наотрез отказался, и Марине Александровне ничего не оставалось делать, как убрать в карман свою новенькую хрустящую трешку.
— Но пить-то из чего? Не из горлышка же! — сказала Марина Александровна.
Тогда Борис достал из кармана стакан и сказал:
— Выпьем по очереди! Спустимся к морю, ополоснем стакан и — да здравствует пароход!