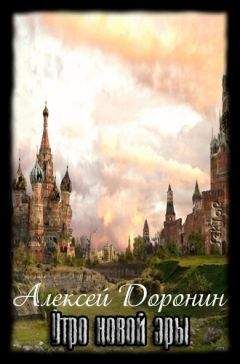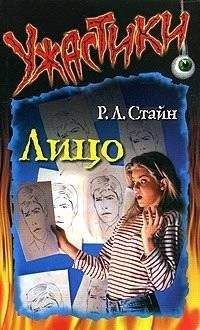Георгий Семёнов - Голубой дым
— Сейчас согреюсь,— отвечала Танечка, растирая ноги.
Люди, жившие в поселке и в доме отдыха, видели их всегда только вместе. Так оно и было на самом деле, потому что они никогда не разлучались и, куда бы ни шли, были всегда вдвоем.
Марина Александровна ходила в черных спортивных брюках, в кедах, надетых на толстые шерстяные носки, а Танечка, когда было прохладно, надевала красную куртку из химического кожзаменителя и грубые техасы грязно-синего цвета с белесыми потертостями на коленях и с ярким золотистым ярлыком иностранной фирмы над задним карманом, перетягивая талию широким кожаным ремнем.
— Люди, наверное, принимают нас за маму с дочкой,— говорила Марина Александровна.
— Скорей уж за сестер,— отвечала ей Танечка.— Какая вы мама! — и смеялась.
Но люди не такие уж все дураки, чтобы так ошибаться на их счет. Ни за маму с дочкой, ни за сестер их никто не принимал, потому что они были слишком уж разные для такого близкого родства. Люди провожали их взглядами, и порой кто-нибудь говорил неопределенно:
«Вон опять пошли эти две... Опять, наверное, за тюльпанами».
«Нет,— возражал другой,— они в Медузью бухту ходят и купаются голышом. Там ведь ни души».
Во всяком случае, интерес к ним с каждым днем возрастал. И особенно заметно повысился, когда они, подъев свои припасы, купили в доме отдыха на десять дней курсовки и стали завтракать, обедать и ужинать в большой столовой. Им выделили места за пустующим столиком, за которым иногда они видели лишь какую-то мрачную и нелюдимую женщину, приходившую обычно за несколько минут до открытия столовой и съедавшую все со скоростью автомата. Они пытались с ней здороваться, если заставали, но она даже головы не поднимала от тарелки, и тогда они тоже перестали ее замечать; это было даже удобнее для них: ни Марина Александровна, ни тем более Танечка в пустопорожних застольных разговорах не нуждались и были рады, что их посадили за этот столик в проходе, на который другие отдыхающие не позарились, отыскав себе в свое время местечки поудобнее, хотя, конечно, трудно говорить об уюте, сидя в большом и шумном плоском зале, похожем больше на манеж для выездки лошадей, чем на столовую. Но кормили там сносно, потому что это был дом отдыха, в котором обитали шахтеры Донецкого бассейна, а они, как известно, кое-как и кое-чем питаться не привыкли, тем более что и отдыхать они приехали всерьез, а не как-нибудь: это не те легкомысленные отдыхающие, которым лишь бы в море искупаться да сбавить вес. Были даже скандалы с администрацией дома отдыха и столовой, но после этих шумных разговоров отношения наладились: кормить стали вкуснее и порции увеличили.
Еды было предостаточно, и Танечка, боясь растолстеть, многое оставляла на столе, не притрагиваясь, а Марина Александровна жалела, что купила две курсовки: вполне хватило бы и одной на двоих.
Теперь, когда они приходили в столовую в спортивной своей одежде и шли к столику, на котором в вазочке алели дикие тюльпаны, на них смотрели внимательно и строго и словно бы осуждали за неопрятный вид, потому что уж очень вульгарными казались они среди людей, одетых празднично: темные костюмы с галстуками, белые рубашки с тугими воротничками, отглаженные платья всевозможных оттенков, лакированные туфли, яркие, как дикие тюльпаны, губы и вспененные в прическах волосы.
Было бы неверно думать, что люди эти, приходящие завтракать на берег теплого моря в вечерних нарядах, лишены всякого вкуса и чувства меры. Все это сложнее, конечно, и надо еще разобраться, прежде чем отворачивать нос и фыркать в платочек. Дело, пожалуй, в том, что для людей этих, много времени в повседневной жизни проводящих в шахтах или в цехах заводов, щеголяющих там отнюдь не в чистой и отутюженной одежде, а в брезентовых прорезиненных робах, в промасленных комбинезонах, отпуск как раз и является тем приятным временем, когда можно позволить себе надеть хороший костюм и накрахмаленную сорочку с галстуком. Одежда — тоже один из атрибутов отдыха, признак праздника души и тела.
Надо сказать, что человек умственного труда, приезжая отдыхать, ведет себя совсем иначе: ему в его жизни повседневной до чертиков надоедает как раз цивильная эта одежда, как надоедает шахтеру или слесарю грязная роба, и с первого же дня своего отпуска он облачается в самую что ни на есть простую одежду, стараясь напрочь забыть о костюме и галстуке. Боже упаси! Для него отдых не в отдых, если на ногах будут начищенные штиблеты, а не растоптанные и выцветшие кеды, а шею будет обтягивать тугой воротничок.
Вот и слушай тут умников, которые, не подумав, осуждают людей, непохожих на них. Не осуждать тут нужно, а понять друг друга, не в бескультурье обвинять, а пораскинуть мозгами и рассудить, что к чему. Понять друг друга и уразуметь, что профессия тоже диктует свои правила человеку, свои представления об отдыхе.
Впрочем, эти размышления о том, кто в каких одеждах отдыхает, большого значения для рассказа не имеют, потому что какого-то явного осуждения, конечно же, не было: Танечка и Марина Александровна оказались отчужденными просто в силу временных причин: люди, отдыхавшие в доме, давно уже перезнакомились друг с другом, сбились в свои какие-то компании, и всем было хорошо жить в этом доме на берегу моря, зная друг друга и понимая, а тут вдруг явились эти две и стали вместе с ними обедать, ни с кем не здороваясь и ни на кого особенно не глядя,— сами по себе. Ничего вызывающего в их одежде не было, и двух дней не прошло, как люди привыкли к ним, а мужчины даже подсаживались, извиняясь, за столик и спрашивали, что они делают по вечерам и где живут. И на смельчаков, которые отваживались подсесть и разговориться с новенькими, многие поглядывали с застенчивыми и смущенными улыбками, словно бы восхищаясь ими, но в то же время и стыдясь за их бесцеремонность. И было во всем этом много доброжелательности, потому что людям искренне казалось, что этим симпатичным женщинам очень скучно и одиноко жить здесь. «А у нас тут кино по вечерам и танцы на веранде»,— говорили им и звали приходить, не стесняться. Сначала мужчины, а потом женщины стали заговаривать с ними: «Все-то вы одни да одни. У нас и экскурсии есть, записались бы... Все веселей!» — и таяли в добрых улыбках. Новенькие тоже отвечали им добром: «От Москвы устали, вот и хочется по горам походить, где людей нет. Спасибо за приглашение».
Теперь они своим знакомым кивали при встречах и здоровались, а те им тоже здоровья желали. Мужчины обычно перед обедом или ужином, перед тем как в столовую идти, дегустировали крымские вина возле киоска и беседовали о здешней жизни, а увидев новеньких, которые издалека спешили в столовую, поглядывали на них с веселым хмельком в глазах, пошучивали, здороваясь, а когда те проходили, начинали говорить о «бабах», о похождениях любовных, хвастаясь друг перед другом удачливостью, как малые дети храбростью и силой.
Портвейна крымского, южнобережного или муската розового стакан с разговорчиками о женщинах и с шоколадной конфетой, а там — и в столовую тоже пора, в белоскатертный этот зал с салфетками на столах, в гул голосов, в приятную свежесть и довольство.
«Ну как вода? Купался сегодня?»
«А на горе опять облако, опять туман».
«Та що же это дельфинов не видать? Так хотелось поглядеть дельфинов, братцы, а их нема... И куда они запропастились?»
И никаких забот у человека. А вечер наступил — в кино или на танцы, если не очень стар и не забыл еще разницу между вальсом и фокстротом.
В эти часы пустынны заросшие белой акацией и сиренью душистые аллеи парка, тихо горят фонари, бьются о них ночные бабочки и всякие букашки полуночные, редко прошуршит по присыпанной мелким гравием дорожке гуляющий человек, а сквозь дощатую стенку летнего кинотеатра разносятся по саду бубухающие, громоподобные голоса — слов не разобрать, и слышно только, когда мужчина говорит, а когда женщина, музыку слышно и взрывы хохота в зале, если смешное показывают.
В саду тишина, и фонари горят одиноко и словно бы удивленно. На веранде тоже музыка, и тени танцующих скользят по высоким и ярким окнам. Там суета. Там без устали крутят радиолу, и слышно, как под ногами гудит деревянный настил пола.
«А вы все одни да одни».
Это и на самом деле стало надоедать.
Несколько раз они звонили в Москву, дважды Марина Александровна заставала дома сына, и оба раза он говорил, что постарается приехать «искупнуться» в море, жаловался, что заела наука, ворчал на отца, который вот уже две недели подряд варит куриный бульон из болгарских кур, передавал привет Танечке, а однажды даже согласился поговорить с ней, но говорила, взяв трубку, одна только Танечка, а сам он отделался несколькими словами, какими-то тоскливыми и грубоватыми намеками на возможность неожиданного приезда. Но Танечка все равно бывала в эти минуты радостно взволнованна и снова вся переполнялась надеждой, хотя Марина Александровна, отлично понимая, что сын не приедет, пыталась как-то сбить эту напрасную радость и говорила с нарочитой грубостью о сыне: