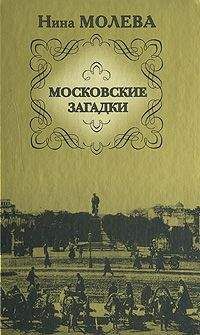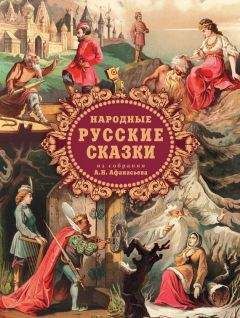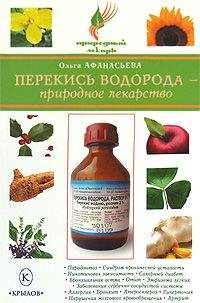Театр тающих теней. Конец эпохи - Афанасьева Елена
«Готика крымских скал / Вместо короны на детство. / Непостижимо наследство / Солнца империал…»
Только ты и этот пылающий золотом империал солнца.
И складывающиеся в фату твоей мечты облака, пронизанные мелкими стежками вездесущих чаек.
И готика крымских скал, вычерчивающая в предвечернем небе стрелы, подобные контурам великих соборов.
…Дан тебе вечный город. / Твой ближних гор Рим. / Как подобающе горд он. / Но покоряем. Горим / Вместе желанием таинств. / На портике склона колюч / Репейника башенный ключ / в руку – дворец обитаем…
Строки как прелюдия жизни.
Всё эскиз. Всё набросок…
Строки…
Легкие, стремительные, словно принесенные на крыльях птиц. Возникающие из ниоткуда – из этого вечера, из этого ощущения разбега, из этого перечеркнутого полетом чаек неба.
Пунктир букв на бумаге сливается с пунктиром птиц в небе, а она, юная Анна, попав в ворожащий, колдующий, пугающий ритм, пишет и пишет, примостив на уступе скалы смятый лист, стачивая о твердую, проступающую сквозь бумагу скалу грифель карандаша.
И не успевает понять – хорошо или плохо всё, что она пишет.
И не успевает задаться вечно терзающим ее вопросом – зачем?
Зачем все эти муки и ранения истекающей стихами ее маленькой души, если уже есть Ахматова, есть Цветаева, есть Блок, Гумилёв есть?
А есть ли она, Анна, еще неизвестно. Зачем писать еще и ей?
Но в этом ливне строк задуматься об их ценности Анна не успевает. Разве что записать.
Карандаш обломан, в наспех вырванном из ученической тетради листке давно не осталось места, а строки все бегут, сыплются, льются на нее с неба сплошным потоком. И она, словно сумасшедшая стенографистка, силится не упустить ни слова из продиктованного ей свыше.
…Если нет сомнений среди дня / Полуночная стенографистка / Я пишу истории дождя…
Не упустить… уловить… сохранить… сохранить… сохранить?
Но можно ли сохранить поток света?
Можно ли приколотить к тетрадному листу ритм этого неба, этого моря, этой жизни?
Не равносильно ли обреченное отчаянное стремление попытке прикнопить к листу солнечный свет? Или бабочку, которых так много на крымских отрогах, и которых ловит теперь Савва. Прикнопишь на бумагу, свет исчезнет, бабочка умрет. И вместо полета лишь пустая кнопка и высохшая тушка.
Анна смотрит на коллекцию Саввы как смотрят на растаявший у тебя на глазах солнечный луч – был свет, и нет. Был полет крыльев этой бабочки, и нет. Приколотое тельце осталось, а полет исчез, испарился, весь вышел.
Так и из нее, как из приколотой к листу бабочки, после стольких лет приличной, «как подобает» жизни вышел свет. Полет исчез.
Стихи как дети, и дети как стихи.
Сначала мы молимся, чтобы они были – всё равно какие, хорошие, плохие, непонятные, разные. Только бы были! Только бы тебе было суждено это рождение – ребенка ли, строфы ли.
Сначала мы молимся, чтобы они были. И только потом начинаем понимать, что хорошие чужие лучше своих плохих. Или никаких.
Та девочка, в ворожбе крымского заката начинавшая понимать про стихи, еще ничего не знает про детей.
Про детей знает другая, бредущая теперь берегом осеннего моря.
И между ними нет связи.
Детям и стихам в ней одной не поместиться.
Чтобы случились дети, надо было забыть стихи. Укрыть свою душу от их боли, свою голову от их ливня. А вместе с болью и стихами запереть возможность летать, как прежде отчаянно и смело летала она с высокого утеса в воду.
Чтобы выжить, нужно было разучиться летать.
И она разучилась.
И жила.
Долго. Целых десять лет. Старательно вняв уверениям матери, что она не Ахматова, так зачем же душу рвать – пациентов психиатрических клиник и без нее хватает.
В какой-то миг ее словно выключили. Дописав с рождением старшей дочери последние строфы («…остальное добавит ей ночь – дочь…»), она не написала больше ни строки. Поменяла стихи на детей.
Она стала мамой. Рожала девочек. Сама заплетала им на ночь косички. И, казалось, нисколько таким положением не тяготилась. Свое ощущение полета она потеряла. Выбросила. И стала как все ходить по земле.
И ходила. Пока теперь, в октябре 1917-го, снова не оказалась на той крымской скале, с которой в юности летала вниз, ловя слившееся воедино ощущение страха и восторга, счастья и испуга, боли и радости.
На другой день после приезда из Петрограда снова дошла до «своей» скалы – и сама испугалась нараставшего в ней желания полететь. Ребенок, который вскоре должен был родиться, был не лучшим компаньоном для подобного рода прыжков.
Проснувшееся ощущение свободы и полета напугало – неужели снова мучиться, как прежде?! И обрадовало – неужели, как прежде – летать?!
В середине ноября приезжают из столицы их питерские соседи по Большой Морской Набоковы – Елена Ивановна с детьми. Вслед за ними подруга матери Аглая Сергеевна с одним из двух своих сыновей-близнецов Антоном с плохо подходящей им греческой фамилией Константиниди.
Аглая некогда училась с матерью в Смольном институте, бесприданницей рано вышла замуж за человека много ее старше, родила близнецов и вскоре осталась вдовой, крайне ограниченной в средствах. Оставшегося от мужа едва хватало на скудное пропитание. Оттого Аглая с сыновьями, по сути, стала приживалкой при богатой подруге. Не было ни поездок в имения, ни праздников, ни детских маскарадов, ни театров, чтобы близнецы Константиниди – Антон и Николай – не проводили время вместе с Анной.
Мальчики, немногим младше самой Анны, выросли на ее глазах, но даже после этого умудрялись подшучивать над ней, представляясь один другим. Так и продолжалось пока Николай не подался на флот, и форма отличила его от брата, вольного поэта. Впрочем, надень и теперь Антон форму Николая, она не узнает, кто из них кто. Николай жестче. Антон мягче. С Антоном она больше говорит о поэзии, с Николаем больше мать говорит о политике и армии.
Набоковы и Константиниди приезжают на один из обедов, которые мать, как и прежде, дает по четвергам. За Набоковыми увязывается и Ирина Любинская, у ее мужа имение неподалеку в Алупке, но сам муж давно в Швейцарии.
Набокова и Константиниди рассказывают про новый переворот в Петрограде, случившийся уже после того, как Анна с семьей счастливо успели уехать.
– Второй за этот несчастный год! В октябре двадцать пятого, – тяжело вздыхает Елена Ивановна Набокова.
Переворот случился ровно в день и час рождения Иринушки, высчитывает Анна.
– Началось все с залпа на одном из крейсеров, стоявших на Неве около Английской набережной, – продолжает свой рассказ Набокова.
– Позор для российского флота. Несмываемый позор.
Николай Константиниди, служит на Черноморском флоте, на сутки вырвался из Севастополя в увольнение увидеться с братом и матерью и теперь не может сдержать возмущения. Любинская тем временем не сводит с него глаз, проводит рукой около собственного декольте, облизывает пухлые губы. Анне от этого неловко – при живом-то муже!
Николай то ли не замечает томных взглядов женщины, то ли как порядочный человек делает вид, что не замечает. Пускается в рассуждения о плачевном состоянии дел на флоте после прихода комиссаров на каждый из кораблей.
– Не место политическим комиссарам на военных кораблях! Без комиссаров такого не могло бы случиться. В страшном сне не приснится – российский крейсер стреляет в центре российской столицы!
– Стреляли холостым, – бубнит Савва в своем углу. Вечно Савва всё знает. Откуда?
– Даже если и холостым залпом! – кипятится Константиниди.
Но Савва уже снова с Володей Набоковым за столиком в углу разглядывает бесконечные альбомы с бабочками, которых племянник мужа ловит в округе.
Елена Ивановна в волнении. Муж ее, видный деятель кадетской партии Владимир Дмитриевич Набоков, вынужден оставаться в Петрограде как член Всероссийской комиссии по выборам в Учредительное собрание.