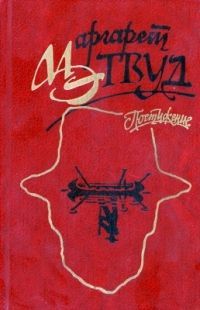Маргарет Этвуд - Постижение
Их я нахожу в холодной комнатке, над входом надпись: «Бар»; они там единственные посетители. Перед ними на оранжевом пластиковом столике шесть пивных бутылок и четыре кружки. Четвертым с ними сидит конопатый парнишка с такой же прической, как у тех, в магазине, только белобрысый.
Дэвид машет мне; он чем-то очень доволен.
— Выпей пива, — говорит он мне. — Это Клод, его папаша — хозяин здешнего заведения.
Клод хмуро тащится к стойке за пивом для меня. Стойка в виде грубо вырезанной деревянной рыбы в красную и синюю крапинку, очевидно, это пестрая форель; на ее выгнутой спине покоится прилавок под мрамор. Над стойкой — телевизор, выключенный или испорченный, и непременная картина в резной золоченой раме, увеличенный фотоэтюд: река в лесистых берегах, перекаты, человек со спиннингом. Все это — в подражание другим барам, расположенным южнее, которые в свою очередь являются тоже подражаниями чьим-то искаженным воспоминаниям об убранстве охотничьего домика, принадлежавшего английскому джентльмену XIX века: знаменитые оленьи головы по стенам, кресла из рогов; у королевы Виктории была такая мебель. Но если всем можно, почему же они, здешние, должны отставать?
— Клод рассказывает, в этом году дела тут совсем никуда, — говорит Дэвид, — распустили слух, будто в озере рыба перевелась. И теперь рыболовы едут к другим озерам. Клодов отец развозит их на гидроплане, неплохо, а? Но он говорит: тут бросали весной невод, так на глубине ее полно, разная рыба, и здоровенные есть, но больно ушлые стали.
Дэвид иногда начинает изъясняться на деревенский лад, это шутовство, пародия на самого себя, он рассказывал, что говорил так в пятидесятые годы, когда хотел стать проповедником и ходил по домам, продавал Библию — нужны были деньги на учебу в духовной семинарии: «Эй, тетка, купи неприличную книжку!» Но сейчас, может быть, неосознанно, он делает это для Клода, чтобы тот увидел в нем тоже человека из народа. А может быть, просто практикуется в завязывании контактов, он преподает «основы общения» на вечерних курсах для взрослых, там же работает и Джо, в системе «Взрослого образования», «Взрослого зевания», как говорит Дэвид; его взяли на это место, потому что он когда-то работал диктором на радио.
— Что узнала? — спрашивает Джо безразличным тоном, показывая, что мне лучше держать свои чувства при себе, какие бы известия я ни получила.
— Ничего, — отвечаю, — никаких новостей.
Голос ровный, спокойный. Это ему, по-видимому, во мне и понравилось, что-то же должно быть, но я совершенно не помню, как мы познакомились, хотя нет, помню; в магазине, я покупала новые кисти и фиксатив в аэрозольной упаковке. Он спросил: «Вы тут поблизости живете?» — и мы пошли в забегаловку на углу выпить по чашечке кофе, только я вместо этого заказала себе лимонаду. Что произвело на него тогда впечатление, он сам потом говорил, так это как я преспокойно разделась и снова оделась после, будто мне до всего этого дела нет. Но мне и вправду не было дела.
Клод возвращается с пивом, я говорю: «Спасибо» — и заглядываю снизу ему в лицо. Оно расплывается у меня перед глазами, тает и возникает заново. Ему было лет восемь в мой последний приезд, он продавал на берегу туристам червей в ржавых жестянках. Теперь ему не по себе, он чувствует, что я его узнала.
— Я хочу съездить на остров денька на два, — говорю я, обращаясь к Дэвиду, потому что машина ведь его. — Посмотреть там, если вы не против.
— Чудно, — отвечает Дэвид. — А я там выловлю себе парочку этих ушлых рыбин.
Он привез с собой чей-то спиннинг, хотя я предупреждала, что его даже, может быть, не придется пустить в дело: если бы оказалось, что отец все-таки нашелся, мы бы тогда сразу же укатили обратно, пока он не успел узнать о нашем приезде. Если он жив и здоров, я не хочу его видеть. Бессмысленно, они не простили мне развода, не поняли, они и замужества моего, я думаю, не понимали, хотя чему тут удивляться, когда я и сама его не понимала. Их особенно огорчало, как я это все сделала: внезапно, ни с того ни с сего, а потом вот взяла и убежала, бросила мужа и ребенка и мои цветные журнальные иллюстрации, такие миленькие, хоть в рамочку вставляй. Бросить своего ребенка — это непростительный грех; бесполезно было им объяснять, что он и не был никогда моим. Но я признаю, что вела себя глупо, глупость — та жеподлость, результат один, и мне нечего было привести в свое оправдание, я по части оправданий вообще не мастер. Вот мой брат — другое дело, он всегда изобретал их, прежде чем грешить, это логично.
— О господи! — говорит Анна. — Дэвид воображает себя великим белым охотником.
Она его дразнит, она постоянно его поддевает, но он не слышит, он уже встал, и Клод уводит его выправлять лицензию, оказывается, лицензии — это обязанность Клода. Когда Дэвид возвращается, я хочу спросить, сколько он заплатил, но он приходит такой довольный, что не хочется портить ему настроение. У Клода вид тоже довольный.
От Клода мы узнаем, что для поездки в шхеры мы можем нанять Эванса, владельца пансионата «Голубая луна». Поль отвез бы нас задаром, он предлагал, но это как-то несправедливо; к тому же он наверняка неправильно истолкует косматую бороду Джо и усы Дэвида в сочетании с мушкетерскими волосами до плеч. Теперь это просто такая мода, как, скажем, стрижка ежиком, но Поль еще, пожалуй, испугается, для него такая внешность знаменует уличные беспорядки.
Дэвид выезжает на шоссе, осторожно сползает вниз по двум глубоким колеям, между которыми торчит большой каменный горб, задевающий днище машины. Перед коттеджем с вывеской «Контора» стоит американец в клетчатой ковбойке, островерхой фуражке и в толстом вязаном джемпере с орлом на спине. Он знает, где дом моего отца, местные проводники старшего поколения знают на побережье каждую избушку. Он сдвигает в угол рта дымящуюся сигарету и говорит, что отвезет нас туда, это десять миль, и возьмет пять долларов, а еще за пять долларов через двое суток заберет нас оттуда, приплывет с утра пораньше, чтобы мы успели засветло доехать до города. Об исчезновении отца он, конечно, слышал, но не обмолвился ни словом.
— Смачный старикан, а? — произносит Дэвид, когда мы выходим из конторы. Он получает удовольствие, потому что видит, как он говорит, реальную действительность: скудная жизнь, заскорузлые старики, словно сошедшие с фотографий времен депрессии. Он четыре года прожил в Нью-Йорке и с тех пор интересуется политикой, он там что-то такое изучал, это было в шестидесятые годы, точно не знаю. О прошлом моих спутников мне мало что известно, и они друг о друге, с кем что было, тоже имеют смутное представление, если бы один из нас страдал полным выпадением памяти, другие бы даже и не заметили.