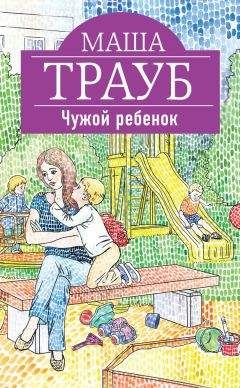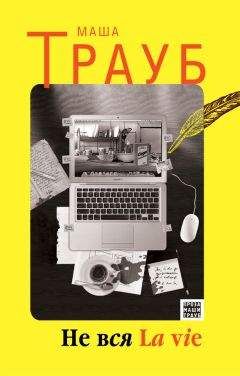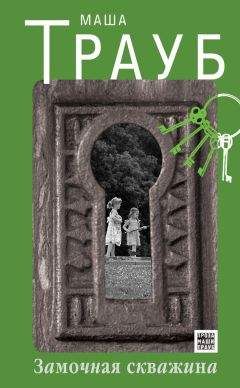Маша Трауб - Я никому ничего не должна
Может, папе, не лишенному тщеславия, самолюбования и даже гордыни, которую он вовсе не считал грехом, а, наоборот, достоинством, нравилось такое слепое идолопоклонство. Женя ходил за папой по пятам, записывал каждое его слово, был услужлив, всегда под рукой. Мама считала, что искренности в Жене – кот наплакал. Она не верила ни единому его слову. Папа с мамой даже ругались из-за Жени.
– Чтобы в моем доме его больше не было. Не пущу. Меня тошнит от него. Лебезит, заискивает. Глазки его масленые, улыбочка мерзкая. Мне противно. Неужели ты этого не видишь? Неужели тебе это нравится? Неужели он может нравиться? Чего ты с ним носишься как с писаной торбой? Или ты получаешь удовольствие от того, что он тебе туфли целует? – не сдержалась однажды мама, и папа с ней несколько дней не разговаривал.
Мама убеждала папу в том, что он просто вписывается в Женин жизненный план, только и всего. И тот предаст его, учителя, при первом удобном случае. Папа же считал, что только на Женю он и может положиться. Да, на такого туповатого, зашоренного, без блеска, зато с хорошей школой, выучкой и дотошностью. На того, кто вынужден биться за свое место под солнцем, быть злым, напористым и наглым. На того, кому терять нечего и некого.
– Послушай, он вырос в детдоме, выбился в люди, не спился, за одно это его можно уважать! – кричал, то есть зловеще шептал, папа, когда все аргументы заканчивались. Он всегда так делал. Когда мама восставала против кого-то, папа бросался на защиту, даже если был не прав.
Мама бессильно замолкала.
– Ну чего ты? – тут же отходил папа. – Нам что, поговорить больше не о чем? Бог с ним, с этим Женей Соловьевым.
– Я чувствую, что что-то не так, понимаешь? – Мама однажды даже расплакалась, чего себе не позволяла почти никогда, тем более в присутствии мужа или ребенка. – Не знаю. Считай это женской интуицией. Я просто ощущаю беду. От него, от этого твоего Жени. Не могу объяснить.
– Ну, перестань, ей-богу. Что за бред? – всплеснул руками папа.
Спустя время мама Женю начала ненавидеть – слепо, яростно, до истерики. Папа смеялся и говорил, что да, так бывает. Не нравится человек – и все тут. Все в нем раздражает – как стоит, как говорит, как пальто надевает. Отторжение на подсознательном уровне, как химическая реакция. То же, что любовь, когда с первого взгляда. Наука, никакой лирики.
Папа всегда был идеалистом и романтиком и дальше своей операционной ничего не видел. Диагноз мог поставить на расстоянии, а дома становился слеп, как крот. Сейчас я понимаю, какой он был замечательный, какой умный – таких мужчин больше нет. Во всяком случае, мне такие не встречались. Папа был добрый. Очень добрый, великодушный. И всегда всех оправдывал. Не видел в людях плохого, дурного, пакостного. Не хотел видеть. Как будто у него стоял защитный барьер – пропускать только хорошее. Да, «идеалист» – правильное слово.
– Ты как дурачок-юродивый, – говорила ему мама, которая в отличие от отца твердо стояла на земле обеими крепкими, как и руки, крестьянскими ногами. – Нельзя всех любить и для всех быть хорошим. И люди плохие. Злые и завистливые. На грамм хорошего отвесят килограмм дерьма. Человек так устроен – ему всегда что-то нужно, он всегда чем-то недоволен, всегда чего-то не хватает.
– Мне ничего не нужно, у меня все есть, – улыбался папа.
Мама качала головой.
К счастью, папа так и не узнал, почему мама так ненавидела Женю. Хотя… если бы и узнал, то не поверил.
Мне кажется, мама очень любила папу. Преклонялась перед ним, уважала безмерно. Понимала, что он уникальный, удивительный. Она готова была сделать для него все, что угодно, лишь бы ему было хорошо. Нет, она правда любила его, как может любить не очень привлекательная, не очень успешная, не очень талантливая и очень, очень уставшая женщина мужчину, который был ей не парой. Рядом с папой должна была быть такая же блестящая красотка, ему под стать. Мама была лишена и блеска, и красоты. Мне кажется, она была благодарна папе за свою судьбу. За то, что он взял ее замуж, за то, что она родила дочь, меня. За то, что у папы и в мыслях не было найти ей замену. За дом, за работу, которую мама, надо признать, получила не без папиной протекции.
Нет, я не обвиняю маму. Я не знаю, как ей жилось, о чем она думала, когда подолгу молчала, глядя остановившимся взглядом в окно. Может, она была не так счастлива, как хотела казаться? Кто знает? Я так и не спросила.
Это качество у меня от папы. Я не задаю вопросов, не интересуюсь. Всегда считала, что личные размышления, рефлексию, нужно держать при себе. Мне всегда были противны откровения, душевные излияния. Наверное, поэтому и подруг у меня не было. Кроме Люськи… Тоже вот странно, почему мы с ней подружились. Не знаю. Потом об этом расскажу.
На работе… Да, забыла сказать, я – преподавала русский и литературу, всю жизнь проработала в одной школе – как пришла после института, так до пенсии и осталась. Так вот, я всегда выходила из учительской, когда начиналось перемывание костей – кто кому что сказал, у кого муж вчера поздно пришел, что свекровь устроила… Особенно раздражала меня Галина Викторовна, математичка. Та приходила утром, бухала свою вечно грязную, порванную, забитую всяким хламом сумку на стол и начинала «отчет»: на ужин котлеты накрутила, полы помыла, погладила, а муж пришел нет, не пьяный, но подшофе. Наорал. Телевизор сел смотреть. Дети достали совсем. Сын хамит. Дочка гульная не понятно в кого – одни мальчики на уме. Учиться не хотят. Наказание одно, а не дети.
– Зачем рожали? – не выдержала я.
Галина Викторовна посмотрела на меня так, будто я ее последнюю котлету сожрала.
– Что? – переспросила она.
Все, кто был в учительской, уткнулись в журналы и тетради.
– Зачем рожали, если наказание? – повторила я твердо.
Галина Викторовна вдруг заплакала. Затрясла губой и заплакала. Все кинулись ее успокаивать – платок, водичка, валерьянка. И на меня смотрели так, будто я что-то такое сказала, за что меня на костре надо немедленно сжечь, как ведьму.
Я вышла. Мне было противно смотреть и слушать, как Галина Викторовна вытирает лицо чужим платком, сморкается и подвывает.
С тех пор мы с ней не разговаривали. Галина Викторовна, как только меня видела, делала оскорбленное лицо. Вся школа считала, что я должна извиниться. Я совершенно не понимала за что.
Потом все как-то поутихло. Никто и не помнил, почему мы с Галиной Викторовной друг друга «не любим», как говорили дети. Мне кажется, даже она не помнила. Все было тихо, пока от нее не ушел муж. К стерве, конечно же. Учительская гудела, как разворошенный улей.
– Увела! – заламывала руки в учительской Галина Викторовна. – И дети не остановили. Вот гадина, ничего святого.