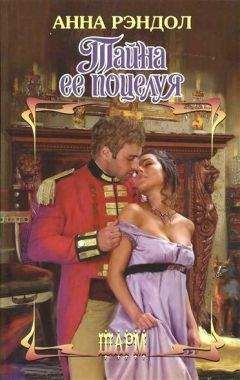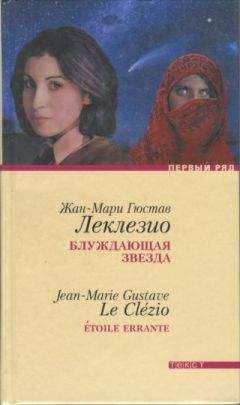Петер Хандке - Детская история
Дилемма разрешилась благодаря тому, что мужчине пришла в голову идея, каковая заключала в себе одновременно очередное предложение, адресованное третьим лицам (при этом он как-то вдруг осознал, что, хотя он сам себя всегда считал не без кокетства волком-одиночкой, неспособным и непригодным к общественной деятельности, в процессе жизни он довольно регулярно, без всякого принуждения со стороны, собирал вокруг себя пусть небольшие, но все же общества: только для этого ему непременно требовалось всякий раз глубокое просветление или общий взгляд, без чего для него не существовало правомерной общности).
Идея имела конкретные очертания, благодаря которым она могла быть представлена другим в виде предложения, и эта конкретность обеспечивалась, как и в предыдущие разы, отнесенностью к определенному месту, площадке, пространству. Разговоры с соседями поначалу так или иначе вращались исключительно вокруг нового поселка и детей. Все сетовали на удаленность общественных учреждений и мечтали – не о «детском саде» или каком-нибудь его современном эквиваленте, а о простом, незатейливом заведении, до которого не нужно ехать на машине и которое было бы открыто в определенные часы для тех, кто в этом жизненно нуждался, ибо еще не мог свободно пользоваться радостями окружающей природы и потому был привязан к собственному дому или соседнему зданию с такой же планировкой. – Эту мечту можно было теперь легко воплотить в жизнь (и, соответственно, собрать такую детскую группу), поскольку появилось представление о ее локализации: большое, пока еще пустое помещение, выходящее окнами на юг, в доме мужчины, со свободным «доступом» к еще более просторному «палисаднику». (Образ бегающих детей наполнил конкретным звучанием и их имена.) Наличие же конкретного места принесло с собой воодушевление: то, что задумывалось сделать здесь, сейчас, было правильным. Отброшены все сомнения, какие терзают обычно незнакомых между собою людей: уже в начале лета помещение было соответствующим образом подготовлено и обставлено, а осенью появились первые дети, и необычное заведение заработало.
В этот период взрослый довольно часто проводил по полдня в роли, так сказать, надзирающего лица, наблюдая ребенка среди непривычного множества других, отчего в нем впервые зародилось сомнение – иного слова не подобрать – относительно собственного чада, которое вызывало сомнение не как живое существо, а как высшая инстанция. До сих пор в основе всех его чувств к ребенку лежало безусловное, энтузиастическое доверие, предшествовавшее всякой привязанности и симпатии. Не имея никакого сложившегося мнения о «детях вообще», он верил именно в данного, конкретного ребенка. Он был убежден, что этот ребенок олицетворяет собою великий закон, который он, взрослый, теперь просто забыл, хотя, может быть, он его никогда и не имел. Разве это дитя не предстало перед ним с самого первого момента его личным вожатым? И для того ему не нужно было дожидаться, пока «уста младенца» изрекут какие-то особые истины, достаточно было самого факта наличия этого человеческого существа, которое было тем, чем оно было. «То-чем-оно-было» служило взрослому мерилом истины применительно к жизни – такой, какой она должна быть. И уже за одно это оно было достойно разумного поклонения, и ради этого можно вполне допустить использование тех слов, которые до сих пор, случись услышать их в кино, пропускались мимо ушей как слишком пафосные или воспринимались, встречаясь в старых текстах, как вышедшие из употребления, хотя теперь они-то и оказались самыми настоящими словами в мире. Кто были те невежды, кто осмелился утверждать, будто великие слова «отошли в историю» и со временем утратили свой смысл? А может быть, они по слепоте или же просто по недомыслию перепутали слова с отдельными фразами? Как жили эти современные люди? И с кем? И сколько всего исчезло на веки вечные из их памяти, если теперь они в состоянии воспринимать только язык пришибленной невнятицы, который при этом отличается чудовищной крикливой кичливостью и в целом не имеет ничего общего с разумной объективностью? Отчего во всех этих нынешних расхожих выражениях, используемых в общественных дискуссиях, в газетах и на телевидении и даже в современных книгах, равно как и в личных отношениях, слышится та же убийственность, тошнотворная банальность, душегубность, безбожность, нахрапистость, раздерганность, какая слышится в собачьих кличках? Отчего со всех сторон льется только одна лишь дармоедская речь жестяного века? – Общению с ребенком взрослый, во всяком случае, был обязан тем, что поруганные великие слова день ото дня становились для него постижимее; с ними невозможно было занестись, невозможно заплутать в заоблачных высях: они вели вслед за собою, открывая все новые и новые вершины; и каждый мог присоединиться, была бы «добрая воля» и понимание «железной необходимости».
Сомнение пришло тогда, когда его ребенок перестал быть один или в компании с другими, отдельными, случайными детьми. Теперь взрослый наблюдал его внутри сообщества, имевшего постоянный состав. Помещенный в этот круг, где он оказался среди множества, ребенок перестал быть средоточием покоя, но постепенно начал превращаться, и с каждым днем все больше, в жалкого червя, снедаемого страхом, – гораздо более жалкого, чем все остальные. Он не был, как прежде, обидчивым, не был упрямым или просто капризным (чему взрослый мог всегда, по крайней мере, найти объяснение), он был вне себя – от горя. Ребенок, который наедине с собою был таким чудесно неспешным, забавным и умным, проявлял теперь, оказавшись в толпе, в лучшем случае суетность и несмышленость, гораздо же чаще, однако, впадал в слепую панику, сопровождавшуюся острой, беспричинной болью, вполне понятной, впрочем, сопереживающему свидетелю. Едва очутившись в этой копошащейся массе, ребенок, словно его кто-то с силой запихнул под воду, стремится поскорее выбраться наружу и, спасая жизнь, пытается найти себе место где-нибудь подальше, но чаще всего не находит даже спокойного уголка. Только теперь в его истории, которая до того протекала размеренно и плавно, обозначилась драма: она явилась как нечто неотвратимое и необратимое, как мучительный адский кошмар. Сомнение же, подобно прежней вере, относилось отнюдь не к его особенностям, но ко всей его сущности: а создано ли вообще это дитя, такое, какое оно есть, создано ли это «то-какое-оно-есть» (то есть всё), принуждаемое, однако, стать другим, но явно ставшее никаким (одним сплошным страдающим «мне больно-больно-больно»), для этой, судя по всему, естественной и неизбежной, предписанной самой природой, всеобщей драмы взаимоуничтожения? Вот такие патетические, вполне возможно «уже давно отработанные» и потому бессмысленные вопросы занимали теперь взрослого, которого можно было все же понять, ибо это его поражали в самое сердце взгляды, взывавшие к нему из сутолоки и сообщавшие нечто гораздо более важное, чем просто сомнение. Родители, участвовавшие в этом самодеятельном предприятии, знали, конечно, причины такого поведения ребенка (и деликатно намекали на то, в чем тут дело), но все их объяснения звучали для него, как те же собачьи клички: не видя причины, он продолжал пребывать в уверенности, что сам все знает, лучше других.
Ко всему прочему довольно скоро стало ясно, что некоторые дети, и это было видно даже по самым маленьким, несовместимы друг с другом. Среди них, наверное, не было настоящих «злодеев», хотя не все были столь уж «невинны» (скорее, попадались такие, которые выглядели как сама невинность, умея с младых ногтей вовремя умыть руки). Все они знали, что такое «плохо», и все равно переступали черту, причем не в состоянии аффекта, а вполне умышленно, сохраняя при этом абсолютную чистоту сознания, не тронутого даже тенью чинимого деяния, отчего их поступки выглядели нередко гораздо более жуткими, чем подлости, совершаемые самыми отпетыми мерзавцами, и уж во всяком случае столь же возмутительными. Бесспорно было одно: среди детей, без различия пола, были такие, которым изначально доставляло несказанное удовольствие на глазах у взрослых изображать из себя палачей – словом или делом; они осуществляли свою губительную деятельность с бесстрастностью профессионалов и преспокойно удалялись по завершении процедуры с чувством исполненного служебного долга. И столь же бесспорно было другое: никакому ребенку не нравится быть обруганным, осмеянным, побитым, – проще говоря, никому не нравится быть жертвой.
В ту эпоху господствовало мнение, что ни в коем случае не следует вмешиваться в отношения детей. Однако взрослому было нелегко видеть каждый день свое дитя в положении слабого и обиженного. Потому что именно его ребенок никогда не сопротивлялся: даже если ему на голову сыпались самые жестокие удары, он в лучшем случае принимался размахивать руками, попадая в пустоту, и никогда с его уст не срывалось ни единого звука, которым он мог бы защититься, он только исторгал из себя жалобные всхлипы самого несчастного и беспомощного существа на свете. Даже если его обзывали или оскорбляли, он никогда не отвечал тем же, он даже не пытался убежать, а вместо этого продолжал стоять как пригвожденный, сжимаясь в комок от хлестких словечек, от которых под конец остается одно-единственное, особенно обидное словцо, повторяемое обидчиком снова и снова и оттого звучащее, как дурная песня с заезженной пластинки, и что бы ни пытался возразить на это попавший под прицел, беззвучно отрицая все, его ответные песни пропадали втуне, – всем своим видом и голосом он только доказывал справедливость предписанной ему роли осуждаемого. Глядя на это бледное, дрожащее «нечто», невозможно было оставаться бездеятельным: вот почему взрослый нередко вмешивался, заступался – и выносил порицание своему плаксивому, замкнутому на себе, не приспособленному к общежительности родственнику.