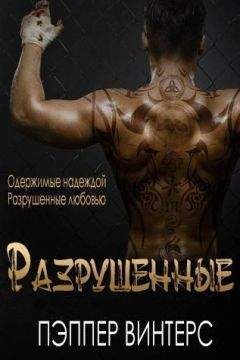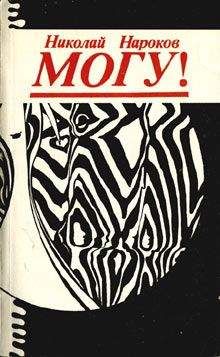Анджей Брыхт - Дансинг в ставке Гитлера
Тут я достал из левого контейнера книжечку и бросил ее на мох перед Анкой.
— На-ка, почитай, поучи правила движения, а потом и поспать можешь!
Что началось! Анка вскочила и разодрала книжку в клочья, швырнула их в меня и закричала:
— Не командуй мною, идиот! Глуп ты еще для этого. Дурак, олух! Хам!
И она кинулась на меня с кулаками. Я крепко сдавил ее кисти. Она начала лягаться. Я прогнулся, чтобы она не могла меня достать, резко дернул ее к себе, повернул спиной и завел назад руки. Она визжала и выла.
— Ударь меня, ты, хамюга! Ну, бей!
— Не ударю, — спокойно сказал я. — Не ударю. Ты расшиблась, когда слетела с велосипеда. Если бы это был автомобиль, тебя бы уже не было в живых…
— Избей меня! — кричала она, и этот крик перешел в рыдание. — Избей, молю тебя!
Она кричала все тише, пока не умолкла совсем, и вырываться перестала; я отпустил ее, она упала на землю и заплакала дико, судорожно.
Я сел и стал ждать, когда это кончится, потому что ничего больше не мог сделать.
Наконец она успокоилась, полежала минутку неподвижно, потом подняла опухшее, красное, запорошенное мхом лицо и спросила:
— Почему ты меня не ударил?
— Потому. Я дал себе слово, что никогда в жизни не ударю ни одной женщины. Это не противник.
Она посмотрела на меня с иронией и презрительно скривилась.
— Ну, круглый дурак! Круглый, — повторила она подчеркнуто, вскочила и быстро пошла в лес.
Я подождал немного, и все это время во мне нарастало странное, неприятное чувство, будто я был принижен до невозможности или будто сам совершил величайшее свинство, после которого даже в зеркало нельзя посмотреться. Это ощущение было какое-то живучее, и сильное, и злобное, как кошка, оно прыгало в самом моем нутре, и я думал, что с ума стронусь. Я быстро схватил свой велосипед и пошел к тропинке, а велосипед Анки остался в кустах; я подумал, что какой-нибудь прохожий может забрать его, и крикнул:
— Я ухожу! Велосипед остается!
Даже эха не было, так что я крикнул еще раз:
— Твой велосипед остается!
И, прыгнув в седло, медленно поехал по рытвинам к шоссе.
Вдруг сквозь шелест ветвей до меня донесся ее крик:
— Стой! Подожди!
Я не остановился. Она ехала за мной, ехала быстро, потому что голос ее все приближался:
— Вернись! Любимый! Я не буду! Аист, вернись!
Я выскочил на шоссе и оглянулся на эту лесную дорогу. Анка выехала из-за поворота и увидела меня:
— Аист, вернись! Я люблю тебя, Аистенок!
Я резко нажал на педали и помчал по шоссе, оно как раз шло под ropiy, а за мной еще долго летел этот крик, пронзительный, словно ее убивали:
— Я люблю тебя! Люблю…
И снова я совершил ошибку — надо бы тут же свернуть куда-нибудь, спрятаться и переждать с час или поехать в сторону, неведомо куда, каждая дорога куда-то ведет, остановиться у какого-нибудь озера и провести там остаток лета, — так нет же, я, как болван, летел по середине шоссе, обогнал пару мопедов, пока не почувствовал, что ноги у меня стали мягкие, просто вата вместо мышц: слишком резкий был этот спурт после бессонной ночи, помнится, я переключил шестеренку на двадцатку и даже на меньшую передачу, и теперь, спокойно крутя педали, приводил дыхание в порядок и мягко покачивался на мазурских взгорках.
Что я думал тогда, во время этой дурацкой поездки, трудно припомнить. Я ведь толком и не думал, как отношусь к Анке, а она — ко мне и на что нужна вся эта нервотрепка, куда лучше сидеть спокойно в Августове у Белого озера, отдыхать перед армией и играть на гармошке. Впервые в жизни стряслось со мной этакое, и, хотя я удрал и оборвал эту идиотскую историю, она все еще скреблась во мне, как живучая кошка.
Хлопок, шипенье, полетела резина. Передняя! Нормальную «шоссейку» на гонках меняешь за двадцать пять секунд, во всяком случае у меня такое время бывало, тренер засекал, наилучшее время по всему округу. Но сейчас шины у меня были побольше, проволокой армированные и с камерой, и торопиться было некуда; Анка, хоть бы третье колесо надела, все равно меня не догонит. Я, не торопясь, делал свое дело — сменил камеру, поставил другую, проверил ее и уже собирался садиться, как из-за поворота вылетел грузовик «форд-канада», старый, как мир, с плоской мордой, даже удивительно, что такое еще ходит и так хорошо выглядит. Грузовик тоже засек меня, притормозил и медленно подкатил ко мне, остановившись у обочины.
Я отступил к самой канаве. «Может, контроль, — подумал я, — может, дорожный инспектор на грузовике рыскает для маскировки», но тут дверца открылась и из кабины выскочила Анка, а шофер смеялся и этаким восточным говором тянул:
— Значит, барышня догоняй, да? А кавалер, значит, от нее драпает, красиво, да?
Шофер грозил мне пальцем, толстым, лоснящимся от смазки, даже солнце блеснуло на нем. Из кузова каких-то два типа спустили Анкин велосипед, она подхватила его, и грузовик с ревом покатил дальше. Анка, смеясь, подходила ко мне, ведя свою «сказку» иначе, чем обычно, и тут я увидел, что передняя резина тоже пустая, а вместо обода — «восьмерка».
Я молча взял ее велосипед, положил в канаву, снял колесо, сорвал резину, отыскал у себя ключ для ниппеля и небольшой кусок мела, пустой обод посадил в вилку, дал оборот и пометил мелом места, где колесо давало перекос, и там ниппель с одной стороны надо было подтянуть, а с другой отпустить, хорошо еще, что спицы были целы и нарезку не сорвало. Анка сидела в канаве и курила, внимательно глядя на меня, будто каждое мое движение хотела запомнить до самой смерти, а у меня за этой работой вся злость на нее прошла, мне уже было как-то легко и весело, краем глаза я поглядывал на нее, но тут меня опять разозлило то, что камеру клеить надо: запасной у Анки, известное дело, не имелось, даже заплаток для заклейки не было; наконец, я все сделал, в рекордном темпе — не больше чем за полчаса, а она все это время просидела почти неподвижно, подтянув колени к подбородку, и выкурила три сигареты. А тут еще пришлось ниппельную резинку сменить — перегорела от быстрого накачивания. Это меня совсем допекло, я психанул:
— И зачем только ты ездишь на велосипеде?
Я хотел еще сказать, что она не имеет об этом никакого понятия, что ездит она как деревенская баба: какой ногой жмет на педаль, в ту сторону и вихляется — многое еще у меня на язык просилось, а она спокойно:
— Ноги.
— Что, ноги?
— С ногами плохо. Приходится ездить, чтобы ноги выправить.
— Как это, выправить?
— Так. Выровнять. Чтобы одинаковые были. Велосипед для этого лучше всего годится.
— Ты что… того?..
Тогда она вытянула свои красивые ноги и, показав на них пальцем, серьезно сказала:
— Одна тоньше другой. Сам видишь.
Я внимательно всмотрелся, она тоже смотрела, будто в первый раз видит свои ноги, но я ничего не мог увидеть, никакого изъяна, ноги у нее были на редкость красивые, это я уже тогда знал.
Я пожал плечами:
— Дура ты. Приснилось тебе.
— Да ты посмотри! — крикнула она чуть не со слезами. — Одна тоньше другой!
— Которая тоньше?
Она посмотрела опять.
— Левая. Погоди, нет… правая.
— Левая?! Правая?! Которая?!
— В зеркале это хорошо видно, — сказала она грустно. — Жалко, что зеркала нет.
Я велел ей встать и хорошенько разглядел ее, в двух шагах, вблизи — ноги были совершенно одинаковые.
— Возьми веревочку и смерь, — сказал я. — Щиколотку, икру и под коленом. И не городи ерунду.
Она поморщилась.
— Веревочка ничего не даст. На глаз видно. Веревка — фу! Все мне говорили. Знакомый врач посоветовал лето на велосипеде провести, это выровняет ноги. А может, уже выровняло… Хотя нет.
Как-то на лагерном сборе мы разыграли одного лопуха.
— Ты видал когда-нибудь белую мышь? — спросил его приятель.
— Видал, — похвастал лопух.
— Тю, он видал белую мышь! — крикнул приятель другому и постучал себя по лбу.
— Что, белую мышь? — закричал другой со смехом. — Идиотина!
— А вот и видал, — упирался лопух.
— Белую?!
— Белую.
Тогда пришли тридцать парней, и один у другого спрашивал, есть ли белые мыши, и каждый отвечал, что нету — ни в книжках, ни вообще. Каждый стучал себя по лбу. Все божились и клялись чем попало, что белых мышей нет, пока не пришли к выводу, что лопух спятил и скоро, того и гляди, начнет на велосипеде задом наперед ездить.
— Да где ты видал белую мышь, тютя?
— Разве что с перепою!
— Во сне!
Шуму было, гаму, заморочили лопуха так, что он поверил, а через час после такого балагана приятель снова спрашивает:
— Ну, скажи правду, видал белую мышь?
Задумался глубоко лопух, лоб наморщил, скрипел мозгами, чуть глаза не вылезли, и признался со стыдом, всерьез:
— Нет. Не видал. Всякие были, а белых нет.
— Это ты морскую свинку видел, — крикнули ребята.