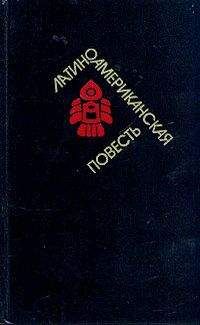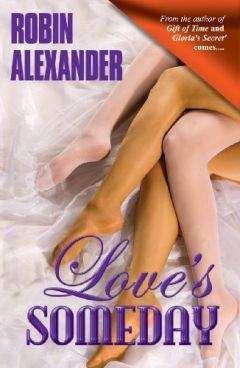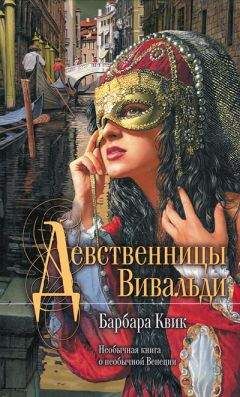Георгий Давыдов - Крысолов
Наверное, Федор Федорович, если бы был пессимистом, не брался бы за прожекты в каком-нибудь 1952-м (история с дирижаблем) или 1961-м (поездка Редлиха во Вьетнам), или в 1979-м (фантастический план — как все твои планы, собакин! — скажет Ольга — мятежа новых декабристов в пустынях Афганистана), или, простите, в 1984-м… «Надо уметь долго жить, — улыбался Буленбейцер читателям „Лайфа“ в 84-м, — крепко верить, а если вдруг умирать, то весело, не так ли?..»
«Русский монархист предпочитает шампанское из Москвы» — так озаглавили последнее интервью.
Последнее, но мастерство издевки не изменило ему, ведь именно там он бросил: «Вообще-то большевики преспокойно могут объявить гением не Ленина, не Сталина, а нынешнего своего Чернеменко…» — «Черненко?» — переспросил интервьюер. «Нет! Чернеменко! — ответствовал Буленбейцер. — Мне не свойственно путать фамилии».
Конечно, конек Буленбейцера — в ролях, почерк Буленбейцера — в шутках. Он (который не обижался) бывал недоволен, если коллеги говорили, что его почерку свойственна немецкая вульгарность. «Разве? Не думаю».
Отчего же не мило (кстати, вы пробовали, особенно под буркалами фараона?) просто свинтить болты на покрышке авто (шумное дельце сентября 1931-го) ситуаяна[2] Владимира Мусиса, прибывшего из Москвы? Вы видели, какая была у него мина на загородном шоссе, близ леса святой Геновефы (черти, что ли, туда его направили?). Спешить не станет теперь устанавливать контакты? устраивать контракты?
А приятное знакомство с малахольным поваром из кафешантана «Ослиные уши», который почему-то так любят, так любят все парижские леваки? Зеленое лицо Божко в больнице, на саване койки, разве не доставит вам чувства не зря прожитой жизни? А всего-то: зеленые (из гусиной печенки) котлетки… Жаль, что повара «Ослиных ушей» все-таки рассчитали — он, душа, так любил неожиданно-мексиканские приправы, которые дешево торговал смешно-толстоватый и черно-усатый и к тому же с вызывающе-голубыми глазами мексиканец Хосе. Пусть и не порошочки из Москвы по рекомендации Фейхтвангера, но ведь валит бизонов! И если (вот приятность) чрево переевшего приправ довезут до московских лабораторий, то можно рассчитывать, что лубянский чудодей-ядодел уважительно хмыкнет остроумному купажу, который сочинил дилетант-гуляка с Больших Бульваров?
Да, Федор Федорович с ранних лет симпатизировал химии. Начинал (понятное дело) с порошочка серого цвета и с ртутным отливом, если, конечно, в чулан проникает свет. Анализировал действие. Зачем нам блуждать в потемках? Научность, научность — вот наш девиз. Жар, следовательно, в желудке, иголки, следовательно, в кишках. Дышится, следовательно, дурно, сердце съезжает, следовательно, в пуп. Таков старозаветный мышьяк, которым травили и травят маленьких мышек и, увы, прекрасную госпожу Бовари. (Впрочем, с подпорченной моралью.)
Дальше? Дальше стрихнин (от слова уже поплохело? кха-кха — в самом деле, вы правы, дыхания паралич), потом фосфор, не забывайте углекислый барий. Мышкам столько грамм, крыскам столько грамм, крысинам столько грамм, крысищам столько грамм, теткам в черных платьях, которые охохохоют по-французски, наблюдая умело разложенные Феодором на дачных тропках серые лепехи для грызунов, теткам — сколько килограмм?
«Любовь к химии, — начинал Буленбейцер внимательному провизору свои речи, — позволила человечеству совершить (привзять за локоть) огромнейшей важности открытия в медицине».
Собственно, роль химика была нужна в данном случае, чтобы отсыпать гиппопотамову порцию сульфонала. Химику же провизор не убоится выдать сульфонал сколько душе угодно? хлорал-гидрат сколько душе угодно? паральдегит сколько душе? гедонал сколько? веронал душе? люминал?
Буленбейцер любил вечные ночные звездочки перед глазами голодных посланников молодой республики, которых она, республика, так неосторожно отправляла в сыто-буржуазные страны с их пищевыми соблазнами.
А ню? Именно. Впрочем, здесь не получится хвастануть успехом. Хотя неприступность коммунистических евнухов только распаляла профессиональную честь Федора Федоровича. Был даже план отправить в Москву старательно составленный венерин букет (посыльный счастливо не знает о своей миссии), в расчете, что году к 1939-му букет доползет и до Самого, до Рябого.
Увы, картотека нескромных достижений откроется только в 1970-е, когда Буленбейцеру приходилось ограничиваться лишь отеческим советом. Жаль, журналисты «Лайфа» не догадались его расспросить, кто все-таки был первым красным дипломатом, ощупавшим кожу мулатки? Абрам Петрович?..
Вернемся к химии? Там (как говорил Буленбейцер) всегда найдется счастливая пуговица в тесте. Например, серия конвертов для европейских попугаев с красноподмазанными хвостами… Мало кто вспомнит, что дипломатическое признание Москвы сопровождалось рядом необъяснимых несчастий. Ну, так поднимите газеты. В ноябре 1924-го французский дипломат Анри Фугэ попал в больницу с сильнейшим ожогом носоглотки. А под Рождество того же года левый журналист Мишель Мермешель с теми же симптомами был найден в своем кабинете в бессознательном состоянии. Причины? В октябре 24-го Франция («наша прекрасная Франция, верная русско-французской дружбе!») подписала с крысами договор. Эти двое были важными трещотками в деле.
Потом — некоторая пауза. Буленбейцер не играл одних и тех же дебютов.
В ноябре 1933-го (признание США) дипломата Джеймсона порошок уложил в катафалк сразу. А вот Бульшприта выходили (что ж: Федор Федорович умел переносить промахи).
Он работал индивидуально, но он работал и веером. Разумеется, с некоторых пор обитатели нор (т. е. красные дипломаты) отучились вскрывать заманчиво-чужие письма с недоумевающим порошком внутри (о праматерь Ева! о любопытство!) — немало харь (смеялся добродушный Федор Федорович) так и остались лежать усиками в пепельницу — в дозах быкодав всегда был щедр.
И, между прочим, он не считал себя жестоким. Разве называют жестоким того, кто, играя в казаков-разбойников, вдруг влепит (и не желая!) палкой меж глаз высунувшемуся простаку?
Поэтому (он все-таки надевал марлю), всыпав порошок в конверт (обратный адрес, допустим, Венецуэла) и отправив по лабиринту жизни, поужинав без вина (никто бы не назвал его сибаритом), но с почти русским вареньем, засыпал сном щенячьим. Ведь не только восторги щенячьи, но и сны такие бывают.
15.Флегматик? Да, его так называли. Но не оценивая темперамент, а в соответствующих формулярах, где подобные определения всегда печатают в кавычках («Сереженька, — надеялся Буленбейцер. — не стибрил бумажки в Москву…») Итак, «Флегматик», «Толстяк», «Одноглазый», «Волкодав» (увы, ради дела пришлось изменить «быкодаву»), сюда же «Вепрь» и «Следопыт» — не слишком ли много? Почему же: были еще «Ильич» (приятно подразнить красную контрразведку — хотя они тупо-мстительны и почему-то не ценят юмор), а как вам «Нефульянов»? Он хотел было вместо «ф» вписать «х», но дворянские корни препятствовали… Проскользнуло даже «Булен» — исключительно между своими.
«Флегматик» или флегматик — а у него — обычно «величаво-спокойного» (как наставляли в «Правилах придворного поведения юного дворянина») — случались, да, случались срывы…
Вот, например, по осени 1930-го (после того как крысы уволокли генерала Кутепова и удушили в корабельном трюме, а капитан Штосс вдруг скончался за столиком кафе прямо-таки у ног Сакре-Кера), — Буленбейцер почувствовал: нет, не величав я, нет, не покоен. Если бы просто вымещать нервы в яблочко (тиры — бум! бум! — придуманы — бум! — и для уте… — бум! — …шения — бум! бум! бум! бум! — нервов), если бы просто жать фунты в потно-металлическом силомере — но ему не понравился вдруг почтальон — довольно, между прочим, плюгавенький — и пока он склонил голову к желто-кожаной сумке, Булен примеривал: вмазать, что ли, свинчаткой? (После Кутепова она прилежно лежала в кармане ночного халата — удобная, заметим попутно, вещь, если, конечно, уметь пользоваться.) Нет, с почтальоном (серые глазки потенциального избирателя народного фронта, но позже — бесплатного информатора немцев году в 1942—43-м — евреи, знаете ли, бесстыдно обирали народ трудовой), итак, с почтальоном он не стал целоваться свинчаткой — ограничивался барским прохлопыванием (дуло, любезный, не жмет подмышкой?).
А в Риге? Да, неприятность. Это, если правильно вспомнить, 1934-й? Булен любил немецкий лоск еще свободной Риги, хотя латыши, извините, казались ему гм-гм…
Было к вечеру — как, интересно, называлась та улочка с вывеской черта (черт бы ее побрал) на лавке, где потчуют фасолью студентов? по-русски — Молочная — весьма невинно. Кружили сколько они? — с часу дня. Булен так и не научился вставать по-немецки — говорили, что это не раз спасло ему жизнь — те, которым его жизнь требовалась, наивно решали, что он в гостиничный номер так и не возвращался — от бабы, от бабы, — а он целомудренно дрых в объятиях только перины. Итак, с часу и до девяти — нет, перекусить получилось, и перебрать книги в лавчонке, и сунуть нос в музей янтарных штучек, где в отражении витрины Булен приметил теленка, глазевшего ему в затылок. Пусть…