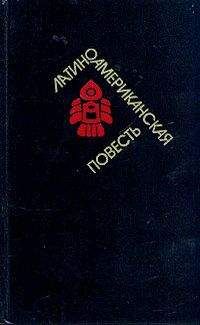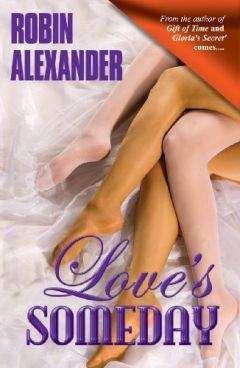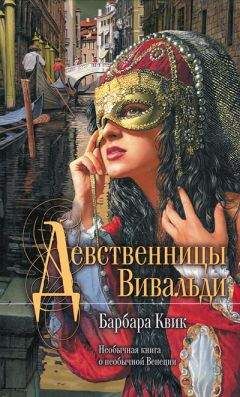Георгий Давыдов - Крысолов

Обзор книги Георгий Давыдов - Крысолов
Георгий Давыдов. Крысолов. Роман
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Допустим, это крапива — я говорю о фотографии. Допустим — я говорю о мальчишке на фотографии — он сносит головы всего лишь крапиве, а крысам (да, крысам) будет сносить после. Впрочем, дело не в способе — он не гнушался и ядом. Разве не радостно видеть на покрытой росой утренней тропке к крыльцу коченелое тельце гадины? Кто-то, однако, намекал (в нос по-французски), что десятилетний крысобой с буленбейцеровой дачи здоров не вполне. Вот именно — что только здоровехонек… Отрок, гм, вымахал, гм.
И где они? (Которые намекали.) Их сглотнули крысы. Вряд ли существенна поправка: крысы двуногие. Двуногим — вот утешение — тоже будет сносить головы молодой Буленбейцер. Разумеется, уже ни дачи на Каменном острове, ни отца, выстроившего дачу, ни дачных друзей, ни хотя бы одного цветного стеклышка с дачной веранды — знаете, такие синие, красные, зеленые, вернее, сочной хвои, просто белые, вернее, кипяченого молока, желтые с золотой радужкой чухонского масла — ничего не останется.
Как тут не мстить?
2.И потом: не всем же можно прокормиться по лабораториям, впрыскивая белым крысам чудо-лекарства прямо в хвост? Нет, это уже совсем не намек, не аллегория. Сердобольный Горький выхлопотал охранную грамоту для группы из семи перепуганных ученых, предводительствуемых приват-доцентом Вотчалом (не тот, что по каплям, но родственник). В 1918 году такой документик можно было конвертировать в хлеб и селедку. Чего, спрашивается, ради?
Горький и объяснил, окая Ленину прямо в плешину: «Они — оченые, все ровно что ортель, и зонимаются опытами обессмерчивания, которые, дорогой мой Володимир Ильич, оченно-оченно нам посегодня ножны, потому как роньше брехали попы про обессмерчивание, а теперь мы покажем, что могущество ноуки доет обессмерчивание в тоблетках. О?» Ильич поддержал.
«Идея, доогой мой Алесей Масимыч, дезкая, дезкая. Но ведь мы и должны дезать! А иначе на кой чет мы твоили еволюцию? Я вас спашиваю? В таблетках ли, в пилюлях ли, в поошках ли, в пимочках ли, в гочишниках ли, в пипаках ли — что метвому пипаки! Хоошо, Алесей Масимыч, говоит усский мужик! — итак, в пипаках ли, в укольчиках ли, в клистиах ли — но бессметие нам, еволюционеам, по плечу!»
Тогда, согласимся, многих поддерживали. К примеру, в Москве успешно балансировал хирург-фокусник Брюханенко — он отрезал головы собачек и заставлял эти головы прыгать при помощи электрического тока. Ведь, правда, талантливо? Профессор Диатрибов, напротив, возражал, одновременно предлагая двигаться иными путями: он, в частности, отпилил руку орангутангу и сразу — в физиологический раствор, удержал в ней и успешно убыстрил жизненные процессы, так что руку стало возможным публично демонстрировать научной общественности. Ведь, правда, смело? Рука торчала из колбы — рыжая, волосатая — раскачивалась и, изловчившись, влепляла затрещину слишком близко оказавшемуся лаборанту. Во всяком случае, так извещала пресса.
Неудивительно, что на этом фоне академик Павлов, скромно расковыривавший дырочку в подбородке у собак, выглядел скучным рутинером.
Буленбейцер тут, разумеется, ни при чем. Разве что вышеприведенный диалог Горького — Ленина принадлежал — теперь можно признаться — перу Федора Буленбейцера той поры, когда он временно маялся от безделья в Париже тухлой (его словечко) весной 1927 года. Группа Шульц — Опперпута, которую он, между прочим, готовил к переходу красной границы, еще не отправилась. Буленбейцер каждую субботу палил по мишеням в частном тире близ Булонского леса, в воскресенье драл горло на левом клиросе русской церкви на рю Дарю, а вечером, под коньяк, отложив недописанное письмо Ольге, зло настукивал статейки с подобными диалогами. Печатали иногда. И даже в «Последних новостях». «Последних подлостях», как язвили ненавистники Феодора.
3.Он звал Ольгу из Праги, где она почти голодала. Она не ехала, потому что не могла простить ему давней остроты про лабораторных крыс, которые кормят тихонь вроде Илюшеньки Полежаева. Что они знали про Илью весной 27-го? Знали, что лабораторию Вотчала давно разогнали (кто-то успел рвануть в Берлин вместе с белыми крысами — редкие экземпляры!). Но, разумеется, медлительного Ильи среди таковых не обреталось. Знали — от наезжавших из Москвы литераторов (они сплошь были похожи на зайцев, спасибо, не на крыс), что Илья перебрался в Москву. Глупость! — резюмировал Буленбейцер вслух и смягчал в письмах — «…решение Ильи не кажется мне удачным — чем дальше от Европы — ведь Петербург все-таки принадлежит Европе, ты не станешь этого отрицать? — тем ближе к крысиным норам дурно пахнущей Азии…»
Буленбейцеру еще повезло: он нашел Ольгу по объявлению в пражской русской газетке на четыре чахлые полосы, под объявления — половина. Выхватить из толкотни попрошаек родной голос — что, было просто? — «Даю уроки вокала и рисования. Ольга Северцева, адрес в редакции». Разумеется, никакой другой Оленьки Северцевой на земле не существовало. Почему же он к ней не приехал? Ведь деньги тогда (как, впрочем, и позднее) у Буленбейцера приятно дремали в портмоне, в секретере, в фиктивных бумагах на отцовскую недвижимость, но главное, главное — в банке. Историю про вывезенный на лодчонке по Маркизовой луже еврейский сейф знала, кажется, вся эмиграция. Буленбейцер не любил детей Сиона (да, не любил), но к их финансовым талантам относился с патриархальным уважением. Небескорыстно.
Как все удачно совпало — на два апрельских денька того же 27-го Буленбейцер прикатил в Берлин — ведь можно пожертвовать тиром и клиросом ради продолжения с еврейским сейфом? ради стонов стриженой немочки (была в Берлине такая)? ради банкета в честь Таборицкого и Шабельского-Борка — по ошибке ухлопавших Набокова-старшего пятью годами ранее — и теперь их досрочно освобождали? ради Оленьки, наконец, — Берлин, не забудем, ближе к Праге, чем старая Лютеция?
Буленбейцер, между прочим, именно так и черкнул Ольге, а она ответила: «Вот и ты, умный, сел в лужу. Отец уже слышал, что ты назюзюкался и троекратно лобызался с Табором и Борком. Не приезжай, если, конечно, у тебя нет желания быть спущенным с лестницы несостоявшимся тестем».
Надо ли объяснять, что Северцев-старший почти дружил с Набоковым-старшим? Сама Ольга, впрочем, на этот счет смилостивилась в постскриптуме: «На тебя, дурака, я не сержусь. Мне все равно, с кем ты целуешься. Мне, кстати, описали твою немецкую гладкую крысу. Ты здоров и весел? Поздравляю».
4.Все-таки те, кто показывал пальцем на висок, поминая Буленбейцера, не могли не отдать ему должное: да, не вполне в здравом, да, черносотенец, да, склонен к садистским удовольствиям (прежде немки у него, между прочим, вышел судебный процесс с француженкой — знаете, синие пятнышки на запястьях, алые царапины на плечах), да, говорит часами, часами об автомобилях, парабеллумах, джиу-джитсу, тонко действующих ядах, альпинизме, большевиках, опять ядах, опять автомобилях, женских прелестях (если в мужской компании, если пригубили из штофа) и никогда — о, например, Гогене, например, Аполлинере, например, Прусте, например, Бергсоне — но, повторимся, не могли не отдать Федору Федоровичу должное — политеса у него отнять было нельзя. Поэтому он не показывался в Прагу. И даже прятался от Шабельского-Борка, когда тот вздумал остановиться у Буленбейцера в Париже («Феденька, ты встретишь меня? я слыхивал, ты скучаешь набобом в холостяцкой квартирушке?» — «Если не отлучусь к тете на юг», — скромно ответствовал Федор, благоразумно перемещаясь на пять счастливых денечков к младшей сестре скандалистки-француженки — нет-нет, ей исполнилось уже семнадцать).
А Ольга? Пила молоко (на молоко все-таки наскребалось) и пела. Что лучше всего было в ее репертуаре? Нет, не романсы на фоне свечи и брошенной траурной шали. Нет, не итальянские арии, которым ее, тем не менее, выучили петербуржские липучие итальянцы в длинную зиму 1911 года — совсем девочку! — но она всегда говорила, что от них, т. е. арий, ломит голову. А вот какой-нибудь «Казачок», когда надо притопнуть после второго куплета и после четвертого, в конце, подмигнуть, положив руку на смело обозначенное бедро — это любила. А «Как бабы шли по полю, по полю, по полю… Увидели вдруг Колю, вдруг Колю, вдруг Колю…» — слышали? Кажется, это пел позднее Вертинский. Но только, если и пел, то точно без финала — «Зачем вам, бабы, Коля один на восьмерых?» Там есть еще слова, но воздержимся от цитаты. Тем более Ольга заменяла их перестукиванием шаловливых каблучков. Впрочем, детям, которым она давала уроки, ничего подобного не пелось. Даже «Перевоз Дуня держала€» считался фривольным, а «Чарочку-чарочку», которую просили исполнить краснеющие (в щеках, не в убеждениях) кадеты, Ольга пела исключительно в литературной обработке Модеста Чайковского. У него, как известно, куплеты завершаются пятой чарочкой. Всего же их, кажется, одиннадцать. Впрочем, кто теперь назовет точную цифру…