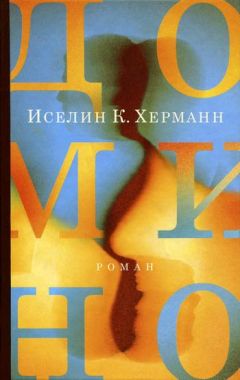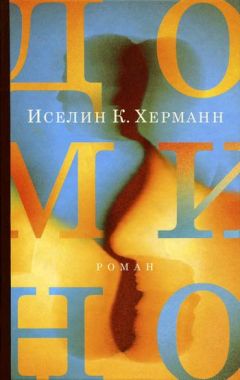Иселин Херманн - Par avion: Переписка, изданная Жан-Люком Форёром
Сегодня я целый день брожу по дому, не зная, к чему себя применить. Говоря по правде, мне стало еще невыносимее.
Теперь я написал тебе, но вовсе не затем, чтобы переложить свое бремя на твои плечи. Просто мне хотелось рассказать тебе о своей печали.
Лишившийся почти всех собак
месье Ж.-Л.
* * *16 июля.
Когда я прочитала о смерти Бастьена, мне тут же пришло в голову, что надо послать тебе бабочку.
Смотри, эту бабочку поймал для меня брат, когда мы гостили у родных в провинции Овернь. Такая бабочка, настоящий цветок без стебелька, зовется у нас в Дании траурницей.
Но самое главное не в названии, а в том, что она бабочка. Бабочки всегда очень легкие, поэтому я и шлю ее тебе, которому сейчас тяжело. Она очень-очень легкая, хоть и отягощена своим названием, но она — траурница — порхает над овернскими долинами, не подозревая об этом, и теперь будет жить у тебя в виде любовного напоминания обо мне,
Дельфина.
* * *21 июля.
Время позднее, Жан-Люк (как говорится, уж за полночь), а мне вдруг захотелось услышать твой голос, вот тут, сию минуту. Безумно захотелось позвонить тебе, хотя я прекрасно знаю, что нельзя — я не должна делать этого и не сделаю. Более того, я не уверена, что нашла бы подходящие слова… что слова нашли бы дорогу к моим устам.
На самом деле мне хотелось бы занять уста и язык чем-то другим, и, смею тебя уверить, — не разговором.
Я лежу у себя на кровати, Жан-Люк, а сна ни в одном глазу. Я не могу спать. Мне нельзя говорить. Вместо писания я бы лучше осматривала тебя ладонями, ласкала взглядом, кончиком языка рассказывала твоему телу разные истории…
Вместо того чтобы словами объяснять, что я сегодня думаю о тебе, я бы предпочла, чтобы ты почувствовал мои мысли кожей. Они легкие, как пушинки одуванчика, и влажные, каким бывает только язык.
Но как мне поведать тебе, что хочется не писать, а рисовать языком у тебя на спине, если не через эту писанину?
Скоро ты получишь новую весточку — когда слова в очередной раз станут устраивать меня, когда к моим устам вернется дар речи, а рука опять выучится писать.
Пока же придется тебе довольствоваться этим.
Твоя Д.
* * *Если б ты только знал, Жан-Люк, сколько у нас в Копенгагене башен!
Сегодня я проснулась ни свет ни заря и первым делом подумала о городских башнях, которые мне снились. И улыбнулась, припомнив одно твое давнее соображение — о том, какие идеи должна была бы навеять Фрейду Круглая башня. Интересно, что бы он сказал про мой башенный сон, который уже начал улетучиваться из моей головы.
Стоит мне выглянуть в окно, и передо мной предстают сразу четыре башни: одна — башня кафедрального собора, вторая — фолькетинга[9], третья — биржи и четвертая — еще одного храма. В Париже я могу вспомнить только Эйфелеву башню и башенку на церкви Сен-Жермен-де-Пре, но это явно неверно, там должно быть много башен. Возможно, я просто не заметила их, потому что, бывая в Париже, прежде всего глазею на людей и витрины. А еще я обожаю ездить на вашем метро, я просто влюблена в него… Сухой, теплый запах серы, хриплый сигнал об отправлении поезда… и восхитительная для меня культура андерграунда — культура подземелья в самом буквальном смысле слова: вот джаз-оркестр, вот девушка играет на арфе, один актер исполняет пантомиму, другой — декламирует Верлена, нищие и алкоголики, а еще художники, которые цветными мелками воспроизводят на цементном полу шедевры мирового искусства. Иногда, когда бродишь под землей, ноги заносят тебя гораздо дальше, чем на поверхности. В общем, я люблю ваше метро и рассуждения о нем не дают мне вспомнить ни одной парижской башни. А впрочем, вспомнила: новая «Тур Монпарнас»! Хотя на самом деле это не башня, а высотный дом…
Итак, мне больше не спалось, и, раз уж до парижского метро отсюда далеко, внимание мое обратилось к копенгагенским башням. Ближайшая из них, несомненно, даст сто очков вперед любой другой башне города. Эта церковная башня словно вьется вокруг собственной оси, заканчиваясь золотым шаром; ее можно назвать Круглой башней навыворот, потому что внутри Круглой башни есть винтовая лестница, извилистый ход которой приводит к расположенной наверху обсерватории. Моя же соседка, в отличие от Круглой башни, сама вьется спиралью.
Мне захотелось подняться на башню, но было всего полшестого, а в такой ранний час и церковь, и башня еще закрыты для посетителей. Не то чтобы меня потянуло взглянуть сверху на город, нет, просто захотелось проникнуть в небесные сферы, как я, спускаясь в метро, проникаю в недра земли. Мне захотелось ввысь, в голубизну летнего утра и утреннего солнца.
Время от времени мне снится, будто я умею летать, и это самые приятные из моих сновидений. Гвоздь программы — полет между линиями электропередач. Начинает сосать под ложечкой, и в то же время я всегда надеюсь, что сон будет продолжаться до бесконечности, хотя прекрасно знаю, что он уже сходит на нет и вот-вот прервется. Пробудившись, я, с одной стороны, счастлива, что летала, а с другой — раздосадована, что проснулась. В полете я чувствую себя бестелесной… у меня нет даже крыльев. Моя душа выделывает в воздухе «мертвые петли», и я вовсе… ну нисколечко… не боюсь упасть с высоты. Страха в таких снах не бывает…
Мне хотелось ввысь. Хотелось взмыть в воздух. Поскольку это невозможно, я села на велосипед и покатила к морю, которое тоже очень близко от меня. Над морем висела изморось. Я вошла в воду. Она была холодная, да и плыть — это не совсем то же, что летать, хотя я отчасти чувствовала себя птицей.
По дороге домой я купила горячих булочек и теперь, сидя за столом, любуюсь в окно на городские башни и пишу тебе. Стоит ли говорить, как мне хотелось бы подняться на них вместе с тобой? Надо ли рассказывать, как мне хотелось бы кататься на велосипеде, летать и плавать вместе с тобой… не говоря уже о том, чтобы завтракать с тобой тут, у окна с видом на четыре городские башни?!
С любящим субботним приветом,
Дельфина, которая чувствует себя
в эту минуту
мятным леденцом
* * *20 августа.
Безмолвие приобрело гигантские размеры. Его приходится резать автогеном. Воцарившееся между нами безмолвие — утекающее время. Я не получала от тебя вестей уже больше месяца. От этого молчания я все больше волнуюсь и не нахожу себе места. Сердце рвется к тебе, распахнутая грудная клетка причиняет боль. Во мне горит адское пламя томления: оно вырывается наружу и обжигает меня. Это тоже больно. Я вне себя. Раньше я никогда по-настоящему не понимала этого выражения, а теперь понимаю. Все мои помыслы, силы, энергия сейчас вне меня. Я перестала обращать внимание на себя, я вся устремлена к тебе.
Думать о тебе — отрада и проклятие. В голове у меня свербит: «Скучая и томясь, я лишь напрасно трачу время» или: «Почему мы больше всего тоскуем по невозможному и недостижимому?» Но меня посещают и другие мысли: «Я не могу отказаться от него и этой тоски».
А еще я пытаюсь разобраться в словах ТОМЛЕНИЕ, ТОСКА, СКУЧАТЬ, НЕДОСТАВАТЬ и проч. Мне кажется, нам недостает того, кого и что мы знаем, но чего в данную минуту нет рядом. Томимся же мы скорее по незнакомому и неизвестному, верно? Скука навязчива, поскольку стремится к обладанию, тогда как тоска и томление более откровенны — и более расплывчаты. Может быть, томление — вроде радуги — постоянно сдвигается? Я тоскую по тебе.
Когда-то бабушка подарила мне старинный французский барометр. Он висит над письменным столом, и, независимо от того, сколько на город обрушивается солнца и сколько воды из луж разбрызгивают проезжающие мимо грузовики, его стрелка всегда указывает на «Переменно». Поскольку барометры не нуждаются в заводе и не могут остановиться, мой барометр просто обязан быть верным. Единственное, что с ним надо делать, это постучать по нему. И я честно стучу, отчего стрелка отклоняется то в одну, то в другую сторону от «Переменно», и мне кажется, барометр показывает вовсе не состояние погоды, а мое собственное состояние. Я действительно неустойчива и переменчива в создавшемся вакууме, но одно-единственное письмо от тебя, Жан-Люк, мгновенно передвинуло бы стрелку на «Tres beau»[10].
Как и доселе, преданная тебе в радости
и в горе
(то бишь в сушь и в бурю)
твоя Дельфина.
* * *Дорогая Дельфина!
Я сижу в Каннах, в старом порту. Еще очень рано, и в воздухе разлита прохлада. Жду, когда откроется хоть одно кафе, где можно было бы выпить привычный утренний кофе, и думаю о твоих письмах, которых у меня нет с собой, но которые я помню от слова до слова. Когда приходит письмо от тебя, я почти никогда не могу дождаться возвращения домой, а должен прочитать его раньше, поэтому я вскрываю конверт по дороге — как мальчишка, который не может удержаться и скорей разрывает пакет со сладостями. И в первый раз я глотаю твое письмо целиком (не бойся, я не поперхнусь) — и не только вижу его, но слышу его тон. Позднее я перечитываю письмо не торопясь, и, можешь не сомневаться, твои послания доставляют мне радость, как можешь не сомневаться в том, что и я скучаю по тебе, однако: