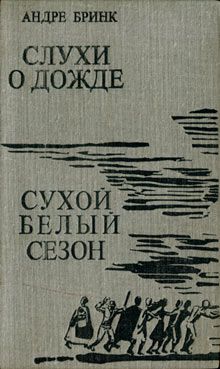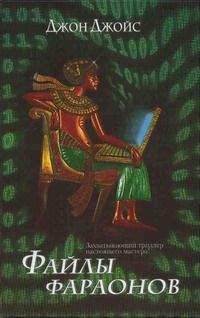Андре Бринк - Сухой белый сезон
— Ну и потом? — спросил я, когда Бен замолчал.
Он посмотрел на меня непонимающе, словно забыл, о чем речь. И отвечал короткими фразами:
— Потом продали ферму. Отец устроился на железную дорогу. Дослужился до мастера. Нам, детям, моей сестренке Луизе и мне, эта жизнь была не по душе. Каждое рождество отец возил нас кататься на поезде. Однако отец уже не встал на ноги. И мать была ему плохой поддержкой. До самой смерти она все жаловалась на судьбу, плакала. Так и умерла. А отец не мог без нее. И ушел вслед за ней.
Он повернулся ко мне спиной и продолжал возиться со своими деревяшками. Больше говорить было не о чем.
И еще немногое, что осталось у меня в памяти от тех двух недель, что я гостил у них, — это последний вечер. Сюзан репетировала пьесу для южно-африканского радиовещания, Бену надо было идти на какое-то собрание, и меня оставили посидеть с детьми. Потом мы с Беном еще пошли к нему в берлогу сыграть партию в шахматы, и, помнится, я уже изнывал, так она затянулась. Когда мы попрощались и я ушел, оставив его побыть перед сном в излюбленном одиночестве, было совсем поздно. Накрапывал дождь. В мокрой траве под ногами тихо жужжали букашки. От земли пахло свежестью. В комнате на столике подле кровати мне был заботливо приготовлен поднос с кофе, свет ночника выхватывал его из темноты. Надо мне было до полуночи торчать за шахматами, вот и упустил случай в последний раз поболтать с Сюзан.
Она вошла, когда я уже лег. Едва слышный стук в дверь. И когда я ответил «войдите», не уверенный еще, не померещилось ли мне вообще, она вошла. Как обычно, оставила дверь открытой. На ней было легкое летнее платье, волосы мягкими локонами свободно падали на плечи. Чуть уловимый аромат женщины, принявшей теплую ванну. Типичная сцена из любого моего бестселлера.
Она присела, как обычно, в ногах у меня, на краешек кровати, а я прихлебывал кофе. О чем мы говорили, не знаю. Помню только, как взбудоражило меня одно присутствие ее, вот так сидевшей на моей постели.
Я допил кофе. Она поднялась, подошла взять чашку и наклонилась за ней. Рассчитанный жест или чистая случайность, а только в вырезе платья обнажилась на какой-то миг ее грудь, и перед глазами у меня мелькнули нежно-белые, такие незащищенные тени с темными ореолами.
Я потянулся к ней, и пальцы сами сжались на ее запястье.
Она замерла и посмотрела мне в глаза, а я продолжал держать ее за руку. Страх — единственное, что отражалось у нее на лице. За меня, себя самое? Выражение, которое мне не составляло труда описать в интимной сцене какой-нибудь очередной истории любви. И вот отчего-то сейчас я едва нахожу слова, когда об этом надо попытаться сказать только правду… «Открытая рана»?
Я отпустил ее руку, и она порывисто коснулась моего лба губами, чуть коснулась. И тут же ушла, закрыв за собой дверь.
Удар-то пришелся гораздо позже. Девять месяцев спустя, если быть точным, она родила сына Йоханна.
На фоне трех наших жизней — бери их вместе либо каждую в отдельности — те полмесяца кажутся не больше чем эпизодом, да и не из значительных. Но мне не из чего выбирать. Теперь, когда я должен написать о нем, любой факт обретает значение. Не уверен, что мне удалось найти хоть что-то, какой-то ключ, но я пытаюсь, я просто обязан. Что же касается всего остального, то здесь остается уповать на бумаги, ими он меня не обделил. Вырезки из газет и письма, фотокопии, журналы и наспех нацарапанные записки. Девушка с милым в своей дерзости лицом на фотографии, сделанной на паспорт, и еще фотографии. Имена, фамилии. Гордон Нгубене. Джонатан Нгубене. Капитан Штольц. Стенли Макхайя и Мелани Брувер. И варианты, предлагаемые моим услужливым и, увы, часто уводящим в сторону воображением. Я должен погрузиться во все это точно так же, как он приобщился к этому в тот самый первый, ставший роковым день. С той единственной разницей, что он не знал, да и не мог тогда знать, что его ждет, в то время как меня сдерживает именно то, что я это знаю. Под тем, что для него осталось недосказанным, я могу поставить точку; что для него было жизнью, для меня — повесть, сообщение очевидца, изложение рассказчика. Мне предстоит воссоздать по загадочным заметкам простое, что скрыто за сложностью событий; что же останется неразборчивым, равно как и недостающее, просто вообразить. Мне предстоит развить то, что он мог только предполагать: он говорит — он думает — он вспоминает — он полагает. С помощью собственных заключений, того, что подскажет мне память, и его беспорядочных свидетельств я должен пройти все с начала и до конца наперекор пустой скорби, что только мешала бы мне — а она будет мешать мне, — и попытаться создать некое подобие достоверности. И эту ношу я должен взвалить на себя, должен пойти на этот риск: это вызов, от которого я не могу уклониться. Кто же еще объяснит, как спокойный, сдержанный человек, которого я некогда знал, стал одержимым, назначившим мне в тот день встречу в центре города?
В каком-то смысле я обязан это сделать, если не в память о нем, то ради Сюзан. Поведай правду обо мне, и я успокоюсь в сердце своем. С другой стороны, я писатель и не могу отогнать от себя мысль, что смотрю на него как на способ вырваться из паралича мысли, в котором пребываю. И это только мешает.
Может, я и счел бы возможным принять ту версию, что человек сам бросился под колеса автомобиля — объяснение не хуже других. Но чего-то явно не хватало в ней. Чего, я никак не мог понять. Но все говорило о том, что такая версия попросту лишена смысла. И вот теперь, когда через неделю после похорон я получил это последнее письмо, все стало на свои места. Теперь у меня нет выбора. И нет смысла его винить — он мертв.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Началось — в том смысле, конечно, что касается Бена, — со смерти Гордона Нгубене. Впрочем, как явствует из заметок самого Бена, сделанных, правда, позднее, и из газетных вырезок, корни этого дела уходят глубже. По крайней мере еще к смерти Джонатана, сына Гордона, последовавшей в самый разгар волнений молодежи в Соуэто. И собственно, даже еще глубже, к тому самому дню, двумя годами раньше, — а на этот счет в бумагах Бена есть расписка с краткой пометкой на ней, — когда он и начал принимать участие в тогда еще пятнадцатилетием Джонатане.
Гордон служил уборщиком в той самой школе, где Бен преподавал в старших классах историю и географию. В старых классных журналах до сих пор сохранились записи насчет Гордона Н. либо просто Гордона. Время от времени в финансовых отчетах Бена, которые он вел со всей тщательностью, значится: «Гордону — 5 рандов» или «Получено от Гордона (долга) — 5 рандов» и т. п. Случалось, Бен давал ему инструкции насчет того, что надлежит записать для урока на классной доске. В других случаях это — обращение за мелкими личными услугами. Однажды, когда в одном классе пропали деньги и кто-то из учителей тут же обвинил в краже Гордона, Бен взял его под защиту, и проведенное им расследование подтвердило, что виноват не он, что деньги взяли недавно принятые в школу ребята. С того дня Гордон почитал за обязанность раз в неделю мыть его автомобиль. А после того, как Сюзан родила Линду и какое-то время не могла вести домашнее хозяйство, жена Гордона Эмилия помогала им по дому.
Постепенно Бену открывалось прошлое Гордона. Совсем маленьким он приехал с родителями из Транскея, когда отец завербовался на рудники в Сити-Дип-Майн. А поскольку мальчик с детства проявлял интерес к чтению и письму, его послали в школу — что было не так уж легко осуществить, если учесть материальное и общественное положение семьи. Гордон успевал в учебе и даже сдал экзамены за второй класс школы первой ступени. Но тут отец погиб во время обвала в шахте, и он был вынужден бросить школу и пойти работать. Мать получала, правда, какие-то крохи — она была прислугой в богатом доме, — но этого не хватало. Он перебивался как мог, сначала мальчиком на побегушках в богатой еврейской семье из Хоутона. Позже подвернулось место посыльного в одной из адвокатских контор, здесь платили больше. А потом устроился помощником продавца в книжном магазине. Каким-то образом он ухитрялся читать и прочитывал все, что попадалось в руки, и владелец магазина, растроганный тягой мальчика к знаниям, помог ему продолжить учебу. Так он смог сдать экзамены за четвертый класс.
Сдал и вернулся в Транскей, что, как оказалось, было неправильным шагом, поскольку здесь работы для него не нашлось, если не считать, что двоюродный дедушка протянул руку помощи, предложив помогать на ферме. Полол кукурузу, травил с тощей дедушкиной собакой зайцев в вельде (мясо шло к обеду), а то просто жарился на солнцепеке у дверей, пока что-нибудь прикажут. Он бежал городской неустроенности, жизни впроголодь, а здесь, на ферме, оказалось и того хуже. То ли он устои утратил, то ли характер у него испортился, но что-то в нем надломилось за эти годы, пока метался неприкаянным. Он и сам чувствовал, как внутри у него растет и разливается раздражение. Все, что удалось накопить за время его городской жизни, пошло на лобола — выкуп за невесту. Вернулся в Транскей. И чуть ли не через год, не выдержав и там, подался в единственное место, которое хорошо знал, — в свой квартал Готини в Йоханнесбурге. После недолгих мытарств он устроился на работу в школу, где преподавал Бен.