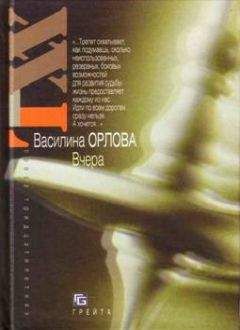Василина Орлова - Больная
И вдруг дневная степь заслонила от взгляда ночное море, и она почувствовала, как лицо овевает ветер сухой, прогретый солнцем, в солнечной пыли, несущий обломки стрекозиных крыльев, лепестки и песок. Острая трава колола босые ступни, но она держалась тропинки, и степь все стелилась перед ней, как скатерть-самобранка, разворачивая все новые и новые соцветия, и белый город приближался с каждым шагом — уже из-за горизонта появился отблеск: то горел в солнечной славе самый высокий золотой крест — крест на Софийском соборе.
— Пенелопа обеспечила вдовство Итаки, — вдруг заговорил Сергей, и голос его звучал как из подвала, из-под земли, из глубины. Он вернул Валентину сюда, на поросший полынью и мятой берег, в ночное дыхание моря.
— Старея и думая об Одиссее, она сочинила себе ткацкую работу. Всё, что угодно, лишь бы не выходить замуж, — продолжал Сергей. — А ее женихи состязались между собой, сгибая лук — ты же знаешь, что лук хранится прямым, и перед каждым сражением вновь натягивают тетиву.
Море вздыхало глубоко, размеренно, шумно, как дышит человек, впервые притворяющийся спящим.
— И царь, — говорил Сергей, — хозяин, который прикинулся простым странником, работником здесь, на этом дворе — он тоже пожелал принять участие в состязании. И он один смог согнуть лук. Такое оружие поддается только тому, кто имеет на него все права.
C: Documents and SettingsЕгорМои документыValentinaVademecum
Hysterics.doc
Потом уже Валентина узнала о Сергее Нохрине — если не все, то для знакомства достаточно.
Она давно не видела такой… аскетичной обстановки, как в его доме — съемной двухкомнатной квартирке в Жуковском. Даже не двухкомнатной, просто проходная комната здесь означала одновременно и кухню. Сергей сменил несколько квартиренок в Москве, в этой квартире после развода с женой он жил со своей матерью. У него была четырнадцатилетняя дочь. Ему было под сорок. Во рту у него недоставало верхнего переднего зуба. «Я добился, чтобы все мои вещи умещались в одной легковой машине».
Он сказал это, когда она ехала к нему. Они стояли в тамбуре электрички, и она чувствовала себя, как овца, которую ведут на заклание. Хотя на самом деле это был ее выбор. Свободный выбор овцы.
Она передумывала на каждой станции метро. И выходила. И он выходил следом. Чтобы увлечь ее обратно в вагон.
— Мамы сегодня нет. Подумай, как это хорошо, и как это тебе необходимо — побыть с мужчиной. В Москве не все женщины могут себе позволить мужчину. Посмотри на меня — я для тебя. Послушай, у меня нет слов, чтобы уговорить тебя. Да я и не должен этого делать. Но все-таки — все-таки поехали. Мы пойдем на берег речки, если ты хочешь, или послушаем музыку. Знаешь, какая у меня есть музыка? Просто побудь со мной. Просто будь мне другом. Вспомни море, базилику.
И она поддавалась.
Но на следующей станции выпрыгивала, в ужасе от своего малодушия и того, что они собираются совершить.
Хотя, что такого-то?
Тоже мне, преступление.
Когда они оказались на вокзале — после череды взрывов, многосерийной истерики, серии мелких скандалов, разматывающихся, как рулон ковра, спущенный по крутой лестнице — Валентина утихла и покорилась.
В пустой электричке она уже не порывалась выйти в еле подсвеченную фонарями другую планету незнакомой станции, просто смотрела, как полустанок за полустанком укатываются в прошлое, словно это от памяти отслаиваются дни и недели, отражаясь в черных зеркалах окон. В вагоне на деревянной лавке сидела припозднившаяся бабуля с сумкой-тележкой, парень в низко надвинутой на глаза шапке отхлебывал из бутылки пиво, седоусый мужик исследовал в подслеповатом сумеречном светике простынь газеты — газета была бульварной, «Спид-инфо», и он читал и плевался с омерзением, приговаривая: «Тьфу, морда, ёкарганай, ети тя через колено в Господа Бога-душу мать», но все-таки не выпускал листы.
Ночью в доме Сергея не оказалось еды. Они выпили пустого чая, разделись — медленно, превозмогая остатки сопротивления скорее в самих себе, чем друг в друге, и легли.
И Валентина даже подумала, что все объятья будут теперь происходить в ее жизни обязательно так — чтобы нищета сквозила в обстановке зеленой комнаты. Подтеки на потолке и старые обои. Чистый, но очень древний линолеум.
Всякий раз потом, встречаясь с Сергеем на улице, и видя его как впервые, Валентина не то чтобы отшатывалась — недоумевала: почему она с этим человеком? Кто он такой? Что за непонятная одежда: кенгурушница с капюшоном, оттянутые на коленях джинсы? Почему недостает переднего зуба? Отчего от него разит потом? Зачем такие большие губы и отчего он на меня так смотрит и пахнет табаком?
Побродив какое-то время с ним по городу (на кафе у Сергея обычно не было денег), Валентина присаживалась на скамейку. Он — рядом. Они смотрели, как медленные листья с таинственным звоном тихо рушились с древесных крон.
— Ты когда-нибудь курил трубку?
Вот еще один кожистый, прочный листок сорвался и, сделав виток в воздухе, упал в лужу, отражающую Фрунзенскую набережную, по поверхности которой пошли круги.
— Знаешь, у меня был знакомый старик, — продолжала она. — Он курил великолепную гнутую трубку, носил шейный платок, всегда открывал передо мной двери и подносил зажигалку к сигарете.
— А я не открываю?
— Нет.
— Правда? — удивился он. — Это потому, что я отвык от женского общества. Ты знаешь, с теми женщинами, которые у меня были, я, можно сказать, почти не разговаривал.
— Это не делает тебе чести, — сказала она.
— Почему ты так говоришь?
Солнце садилось за дома, на автостраде мало машин — проскальзывают крупными глянцевыми жуками, блестят в огнях, все ярче с каждой минутой. Желтые листья в вечернем свете казались зелеными, синими, дворники сгребали их в ароматные тяжелые груды, затем поджигали. И тогда из их прели вился голубоватый дымок.
У киоска с пирогами и слойками он купил какую-то жареную снедь, предложил ей. Она отказалась, нахмурясь.
Он шел рядом с ней, нога за ногу, слека сутулясь. Валентина останавливалась, открывала сотовый телефон — фотографировала листья, здания, небо. Он ожидал ее с еле заметной улыбкой, а может, усмешкой. Ничего не говоря, они шли дальше.
— Комсомольский проспект, — произнес он.
— Знаю.
— Думаю, его не переименовали.
— Да, не переименовали.
— Зайдем всё же в кафе? — попросила она. — Я заплачу.
Полутемный зальчик — пепельницы на всех столиках, мягкие диваны по углам, деревянные столы и стулья, желтые лампы, у стены — муляж книжной полки и муляж бара до потолка. У стойки мерцал синим новый кассовый аппарат с интерактивным экраном. Нет окон.
Смех, музыка, все галдят. Посетители, то есть посетительницы — в основном, девушки лет двадцати, с круглыми нежными в мареве сигаретного дыма лицами, поблескивающими глазами. Валентина и Сергей сели за единственный свободный столик, в самом центре зала, в перекрестье взглядов. Ей было неуютно, она озиралась по сторонам:
— Я выпью кофе.
— Я буду то же, что и ты.
Принесли два бокала с шапкой белой пены — кофе с ликером.
— Действительно, немужской напиток, — сказал он, отхлебнув.
— Напиток как напиток, нормальный, — С некоторым раздражением ответила она.
И Валентина снова рассматривала его. Черты лица грубые — резкой, тупой рубки, плоский нос, большие губы, светло-серые глаза под низко нависшими бровями. В метро, под люминисцентным светом это лицо имеет вид мертвенный, а здесь, в искусном полумраке, угрюмый. В мрачности его было что-то благородное, ненаигранное, но все-таки граничащее с усталостью от жизни.
Щурясь от сигаретного дыма, она уставилась на воротник его ветровки. Хорошо бы он выглядел, если его приодеть. Интересно, какого размера рубашки он носит? У него толстая шея. Купить мужчине рубашку можно, если знаешь размер и окружность шеи.
Сергей улыбался как-то беспомощно, рассказывал про дворового кота, которого, по его выражению, курировал:
— Он когда услышал, как я шуршу пакетом, уши сразу навострил. Настоящий мышелов.
— Так это не мышелов. Это колбасоед.
— Ну, одно еще никогда не мешало другому…
На самом деле, если быть точной, ему тридцать девять. Она никогда не дала бы ему этих лет. Он выглядел значительно моложе — несмотря даже на проседь и почти постоянно угрюмое выражение лица.
После паузы он произнес печально:
— А все-таки ты не должна была этого говорить.
— Чего?
— Будто то, что я не говорил с ними, не делает мне чести.
— А?..
— Ты знаешь, в вопросах чести я щепетилен.
— Щепетилен?
— Ну да.
— Это и есть щепетильность — не разговаривать со своими женщинами?