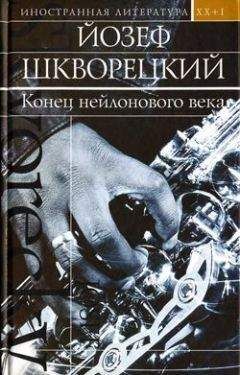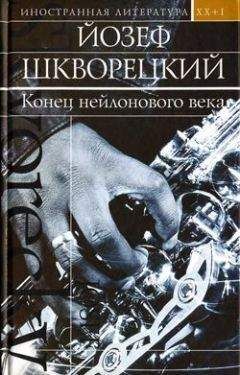Йозеф Шкворецкий - Бас-саксофон
Зи майнен айне джем-сешн? спросил я Лотара Кинзе. Он посмотрел на меня, и в глазах его я не увидел понимания; он повернулся к своему оркестру, но те стояли молча; старик в деревянной одежде, с одним глазом глубоко внизу щеки, где-то в устье евстахиевой трубы; женщина с лицом грустного клоуна, да, весь этот каталог печалей, забот, лохмотьев; исполин на протезе, маленький слепой горбун, девушка со сломанными крыльями белого лебедя (тени сейчас съежились в простые черные лужицы под нами); коротышка-Цезарь – именно он меня понял: Я, сказал он, вен зи воллен. Абер кеннен зи нотен лезен! Говорил он четко, голосом совершенно нормальным, интеллигентным, спокойным (и тем больше было страдания в душе этого укороченного тела, которая оставалась цельной, не уменьшенной дебилизмом или, по крайней мере, ограниченным умом либо толстой кожей беспамятства, какою должна быть душа ахондроплазных лилипутов). Да, нотен лезен, дас шон, сказал я. Абер ихь габни айн бассаксофон гешпилып. Дер… дер… – драйв, хотел я сказать, но немецкий язык меня оставил. Однако Лотар Кинзе кивнул, я еше раз посмотрел на бас-саксофон, положил пальцы левой руки на клавиши. Сел. И тут брейгелевская деталь чудесным образом ожила: откуда-то (не откуда-то – она лежала на рояле) вытащил Лотар Кинзе скрипку, коротышка-Цезарь ловко взобрался на стул около меня, в руках его блеснула труба; гигант подвел слепого горбуна к ударной установке – мужчина в гольфах словно нюхом учуял кожу барабанов, коснулся рукой серых колокольчиков; тягостная угнетенность на его белом лице сменилась чем-то похожим на счастье; словно зрячий, пробрался он между стойками медных тарелок, и широкие гольфы его оказались за большим барабаном, ловкие, нервные пальцы нащупали палочки – он был готов; зазвучали половинчатые шаги гиганта, он подошел к крайнему пульту, где лежали бандонеон и кнопочная гармоника, и занялся ею (мы уже начали пренебрегать гармоникой; Камил Бегунек вроде бы свинговал на ней, но ни один чернокожий ее не использовал: ни Эллингтон, ни Ланцфорд, ни Кёрк, ни Уэбб, ни Басси); крупная женщина с квадратным носом села за рояль; да, на этот свой огромный носище она насадила настоящее пенсне (еще сильнее подчеркивая клоунаду – тем более никто этому не поверит, и я выбросил из головы мысли о коллаборационизме джазового Сократа, себя самого) на черном шнурке, концы которого закрепила за ушами; сейчас она заставила вспомнить огромные маскарадные носы с очками на них – из папье-маше, они крепятся резинкой вокруг головы. Я смочил слюной пластинку, все притихли; дунул для пробы в саксофон: мощный, болезненный вскрик поразил меня самого; он разнесся по пустому залу, за границей света, по этому лабиринту из дерева и плюша, пыли, голодных мышей и сытых блох, напоенных чешской и немецкой кровью – без разбору; да, голос умирающего самца гориллы, который боролся, победил, а сейчас умирает. Я проиграл гамму, вверх, вниз; ноты меня связывали, однако драйв шел; эти захлебывающиеся, незавершенные связки несли в себе что-то от чикагской школы (пожалуй, нечто в ее характере было обусловлено тем, что те молодые музыканты – тоже, наверное, одетые в брюки гольф, как этот слепой барабанщик, – не владели в совершенстве старыми, антикварными инструментами). Гут, сказал я уверенно, Лотар Кинзе ударил смычком по скрипке, которую прижимал подбородком, качнулся всем телом, от пояса вверх, словно в вальсе, знак такта в три четверти, и мы начали.
Возможно, это лишь привидение, призрак, акустическая химера; если бы время складывалось из прозрачных кубиков, как в детской космической головоломке, я бы сказал, что из середины картинки кто-то – некий «мастермайнд», некая «оверсоул» – вынул кубик с воплощением спокойного, никогда ничему не удивляющего Костельца и на это злополучное место вставил маленький прозрачный аквариум с капеллой Спайка Джоунза (это действительно был Джоунз!): в двенадцатитактовой начальной паузе у меня было достаточно времени, чтобы во множестве круглых зеркалец на теле бас-саксофона увидеть оркестр Лотара Кинзе за работой. К тому же у меня имелись уши. Маленький горбун (он выглядел так, будто вдыхал аромат нектара или жаркого из свинины с яблоками – или что там еще в Баварии заменяет аромат нектара, наверное, пиво) барабанил как заводной; пожалуй, он действительно был весь на пружинах, похожий на какого-то механического барабанщика, ибо выбивал палочками на ритме – автоматически, без фантазии – непрерывные неградуируемые тум-па-па, тум-па-па; он был неподвижен, костлявые ручки казались приделанными к корпусу пластмассового манекена с оцепеневшим лицом, выражающим почти безграничное счастье: двигались только костлявые ручки (и нога в гольфах на педали большого барабана, но мне ее не было видно: тум – , тум – ), а ручки – па-па, па-па (однажды, может быть во сне или в раннем детстве я видел оркестрон: механический ангел там барабанил с точно таким же музыкальным талантом; настоящий шлягверк!); а под вздыбленной крышкой рояля женщина с лицом трагического клоуна склоняла голову то вниз, то косо вверх, носище словно сдвигал медлительный ритм механического вальса на такт дальше, глаза по обеим сторонам этого карнавального чуда тщательно следили за пальцами то правой, то левой руки; как третьеразрядная учительница музыки из какого-нибудь приальпийского Коцуркова – без ошибок, но и без полета; в таком исполнении (в таком фортепьянном стиле) заколдованы невоплощенные, абсолютно несбыточные мечтания: о консерватории, где из двенадцати аудиторий звучат двенадцать роялей и двенадцатью этюдами Черни расцветают двенадцать мечтательных образов (глуповатых, как и все мечтания; никто не отдает себе отчета, что сны в действительности умирают при столкновении с жизнью, умирают: реальная действительность – не мечта); мечты о «Стейнвеях», рихтеровские мечты; после консерватории – дорога в жизнь (сейчас – по распределению, а раньше – просто место) в какой-нибудь Костелец: сначала большой успех в местной филармонии или со студенческим оркестром, какие-нибудь «Лунная соната» или «Славянские танцы», потом она принимается страдать год за годом, а в них месяцы и недели, и каждый день – четыре-пять учениц из хороших семей, иногда и сыночек из хорошей семьи, которой пришла в голову бонтонная блажь музыкального образования; четыре-пять часов контроля над пальцами, которые не могут точно попасть, над аккордами, в которых начинают звучать чужие, фантастические тона (палец ошибочно нажал две клавиши сразу); тридцать лет такого контроля – и мечта деревенеет, каменеет; исчезают плавное движение души и нервов и двадцатичетырехлетние пажи, исчезает переливание пальцами нот в мозг, уста и снова к клавесину и к струнам, из которых потом струится музыка, расцветает, звенит и поет; остаются только контроль над пальцами, безупречно точное, автоматическое тум-па-па, тум-па-па левой руки и жестяная, безличная мелодия правой; совершенное, но обезличенное исполнение совершенного, идеального ученика, этим контролем пальцев воплощенного в учителе; а есть и второй, худший конец мечты, большинства мечтаний: они заканчиваются нереализованностью, несвершенностью, на этой страшной свалке провинциальных городков, где время постепенно высасывает гибкость из молодых тел, и души обрастают корой смирения; где люди наконец приспосабливаются к Костельцу, принимают его универсальную жизненную позицию и никогда больше не покушаются на тот единственный, отчаянный (и тщетный) выход для человека – хотя бы на протест, хотя бы на провокацию, если уж нельзя победить (а это невозможно, никогда – не давайте себя обмануть поэтам, это все – лишь ожидание поражения, и то скорее в бойне, чем в битве). Так играла она. громко, без чувства, с педантичной точностью; каждый бас сидел, но все болело; нос подталкивал такты вперед, и в них трепыхался неудающимся вибрато коротышка-Цезарь, по-цирковому эмоциональный, но приблизительный в тональности; а упорный хмурый гигант, гармоника которого звучала, как шарманка (бог знает, как это у него получалось; наверное, давил на кнопки с огромной силой, и его большие пальцы напряженно избегали ошибок). Лотар Кинзе играл лицом к оркестру; в белом свете рампы было видно, как с его струн сыплется канифоль; туловище раскачивалось, вздымая вихри воздуха, и канифольная пыль танцевала в едва заметных реденьких волнах, пропадая во тьме: как и все. он играл громко, в бесконечно чувствительных двухголосиях; не хватало только старушки с арфой и бренчания монет о мостовую (но и это появилось: маленький горбун забряцал треугольником); я закрыл глаза: все это действительно звучало параноидальным оркестрионом: не только барабан, не только рояль – все в целом; идеальный Спайк Джоунз; потом двенадцатый такт, и – это, пожалуй, было гипнозом – невероятный меланж этих пяти дервишей (девушка со шведскими волосами не играла – была она, как я потом узнал, певицей; а деревянный старик – просто рыцарем); когда я снова дунул в саксофон, он тоже зазвучал карикатурно, как гигантский клаксон с управляемой тональностью; я не напрягался с нотами, они были абсурдно легки (все мы были хорошо тренированы на засечках синкоп в ланцфордовских сакс-тутти), но меня одолевал смех: действительно смеющийся слон. Да, скорее слон (слоновий трубный глас, ей зихь эс дер кляйне Мориц форштельт), чем медведь. (Потом Лотар Кинзе мне рассказал, что вальс переименовали вовсе не из-за тональности инструментов; причина была идеологической – после битвы под Москвой.) И все же в этом было удовольствие, и я забыл о своем смехе: если нет достаточного таланта и слуха, всегда играешь с удовольствием, особенно когда ты не один, – хотя бы в четыре руки, тем паче – с оркестром. На бас-саксофоне я играл первый раз в жизни (и в последний; потом он навсегда исчез; его уже нет); у него был совершенно другой звук, чем у моего тенора; но едва я почувствовал, что эти огромные рычаги послушны мне, что я в состоянии извлечь мелодию из этого хобота мастодонта, пусть простую, но узнаваемую, что этот громовой тон контрабас-виолончели послушен движениям пальцев и напору моего вдоха, – я был счастлив. Бессмысленная радость музыки облила меня золотым душем; музыка ведь зависит не от чего-то объективного, а от нашего внутреннего состояния, связана, пожалуй, глубже всего с человеческим; поэтому совершенно бессмысленна музыка трудоемкая, требующая изобретательности ума и долголетней практики производства каких-то звуков, которые ни к чему, которые невозможно объяснить никакой рассудочной целью (моя тетя: «Он был таким бродягой, вага-бундом, играл в барах, на танцульках, да и дома бренчал на пианино целыми днями. В Костельце с ним ни один порядочный человек не встанет рядом»). Вот так я играл с Лотером Кинзе и его смешным оркестром, так же фальшиво, с таким же печально чувствительным вибрато, играл, как составная часть этого разболтанного человеческого оркестрона, продукт которого, словно нарочно, был скорее протестом против вальса, против музыки вообще (он рыдал, так страшно рыдал этот оркестр, что я вообще не понимал эту дисгармонию, это вибрато, трепетное до потери сознания), – так я играл, пока композиция «Дер элефант» не закончилась.