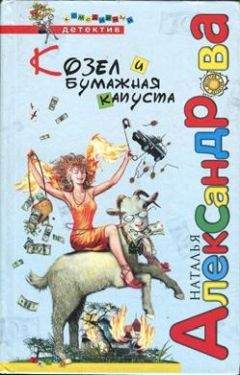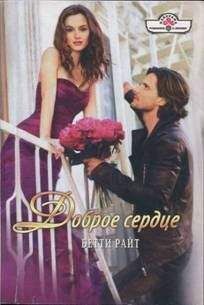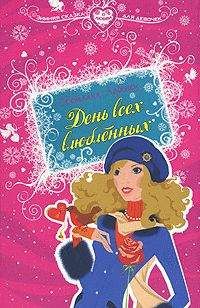Николай Север - Фёдор Волков.Сказ о первом российского театра актёре.
— Не тревожь Щегла! Дай жить человеку… Не то сам пойду в магистрат, объявлю на тебя!
Усмехнулся Власий: «А пока суд да дело, баржа у бережка постоит… Отдохнёт, сердешная».
— Ну что ты, Фёдор Григорьич! Невидаль какая, — притих было Гурьев, — все так, ну и я. Надобен он мне, пущай сдохнет! — А потом, ожесточась, снова: — Только гляди, Фёдор, против своего племени идёшь. Я к митрополиту дойду, он тя из заводчиков в скоморохи пострижет, он тя благословит, он… — так и ушёл, не досказав всего. За ним ушёл и Власий. Остались Щегол да Фёдор с товарищами.
— Спасибо, Фёдор… Пуглива птица щегол, рук ласковых требует, а мне с самого гнезда, за всю жизнь… вон Власий да ты… Пойду… Хозяина нашего опасайся… ворон!
И ушёл Щегол, словно отодвинулся в темноту, в ночь. За рекой, в слободе, девушки песню завели, — слушай да о своём думай. Может, его, Щегловы, песни поют… Народ на память бережлив.
* * *Бурлак, что сирота: когда в рубахе, тогда и праздник. Кабаков в Ярославле казенных да «потайных» не счесть, за день не обойти. Ну, и гуляла ватага, пока полицейский поручик, будучи сам уж не в памяти, команду свою не выслал: гнать гуляк обратно на берег.
На душе у Фёдора в тот день, как в поломанном ветром саду. Ждал Щегла — не дождался. На берег пошёл — пусто на берегу, одна чернота от костров, да рыбья чешуя, да ветер с реки, да дождик мелкий…
Видать, бурлаки, отстояв обедню, отгуляв в кабаках, в бечеву впряглись, молчком по воде захлюпали, тронули с отмели баржу.
И пошли они, оступаясь, в воде. Дождь моросит. Хуже нет лямки, дождями моченой.
* * *Из сарая театр всё же сделали. Начали играть раз, потом два, потом и три на неделе. Смотрителей не избыть! А день ото дня все трудней и хуже. Гурьев с друзьями в магистрате злобствует, воевода о «пожарном спалении» толкует, купечество, к воеводе уважением обеспокоенное, о том же.
Терпения ведь у людишек худых да скудных не избыть, а у воеводы статья своя — на него черт три года лапти плёл — не угодил! И пришёл бы театру конец, если бы… не измыслила матушка Елизавета и верный министр её Петр Шувалов на соль да на вино цену набавить — казну поправить. На вино полтину на ведро накинули, соль в тридцать пять копеек за пуд оценили. Без соли да вина — проживи, попробуй!
Откупщики винные казанские, вятские, ярославские и прочих губерний не приуныли, а лишь пользу себе от того удвоили. Выходит: вор у вора дубинку украл! Разгневалась государыня, сенат в замешательство впал. Пришлось во все места чиновников особых отправить для смотрения за правильной продажей.
И приехал в Ярославль сенатский экзекутор — худенький человечек с орденом на шее и шпажонкой, привешенной сбоку, — для сенатской ревизии откупов по вину и соли. Началось в городе светопреставление, потому как кто на Руси ни в чём не грешен? За худеньким старикашкой при шпажонке да орденке смотри да смотри! Нынче ты здесь, а завтра в Рогервик[14] или Сибирь упекут…
А старичок день в присутствии, как заноза, сидит, бумаги листает, откупщиков исповедует, вечерами, поди ж ты, пристрастился комедию смотреть.
Сидит довольнёшенек, а иной раз и в ладоши плескает. Ему уж уважительные купцы стали и лошадей подавать, С комедии домой отвозить.
Вздохнул Фёдор свободнее. И воевода, и Гурьев, и иные мучители, видя пристрастие старичка к театру, в гонении своём поотстали, не до того… А старичок Фёдора к себе призвал, о театре спрашивал — как да что… Сказывал о петербургских театрах, поучал к действию, сам «Хорева» наизусть страницами произносил и итальянские арии с большой натугой пел… Удивительный старичок! Однако со смотрителями сообща сидеть не пожелал, и ставили ему кресло на сцену. Сидел одобряя, иной раз и сердился. А то, войдя в раж, и тростью незадачливых актёров потчевал — всё шло на пользу.
Так около года и прожил старик в Ярославле, комедиантам благоволения выказывая, откупщикам — немилосердие и пристрастие…
* * *«Вам, благодетель и покровитель мой, к сему описанию древнего града, добавлю об одной диковине, досель, кроме столиц, мною нигде не виданной.
Здешним заводчиком Волковым Фёдором строен и содержится театр для показа тражедий и комедий, и к тому охотники, от разных должностей и сословий, собраны. Между оными многие довольно способностей имеют, а склонность чрезмерную. Здешние, низкие степени, народ столь великую жадность к нему показал, что, оставя другие свои забавы, ежедневно на оное зрелище собирается».
Долго скрипел пером неугомонный старичок. Дописав, пересыпал листы песком, лучину тонкую запалил и, плавя рыжий сургуч, слезами его опечатал один пакет печатью большой, другой — малой печаткой, снятой с большого пальца.
Явился присланный полицмейстером курьер, и помчали кони в столицу сумку «с казенной надобностью» — рапорт в сенат экзекутора, от него же частное письмо господину обер-прокурору, его светлости князю Трубецкому… И не знали ярославские комедианты, что путями-дорогами, закусив удила и растрепав по ветру плеск бубенцов, мчались не ямские сытые кони, а кони их судьбы.
* * *Зимним утром покинул худенький старичок Ярославль. Маленький, щуплый, подагры да хирагры опасаясь, обвязал сверх шинели какую-то бабью шаль, на голову взгромоздил что-то совсем несуразное из куньего меха.
— Пошл! — ткнул рукавицей в ямщицкую спину. — Трогай!
Остались ярославцы в домах своих ожидать, какое им выйдет теперь решение.
А у Фёдора всё пошло по-старому: война не война — побоище гиблое. Словно с цепи сорвались, злобой оголодавшие и попы, и воевода, и купцы именитые. Матрёну, дочь Полушкина, что на Унже-реке вдовий век свой вековала, назлобили на тяжбу с Фёдором… Заскрипели перья: заводы, мол, Волков привел в «несостояние» и «в сущее разорение», заводских работных людей «в ненадлежащей должности употребляет»… Того ради следует всё заводское Матрёне Кирпичёвой, как наследнице, во владение передать…
Соседи в сумасбродстве винить начали, кричат, что за животы свои опасаются… Чума на скот нападает, и в том винят бесовские зрелища да скоморохов.
Дела торговые совсем в упадок пришли, за ним жди последнего оскудения и разора. Ребята, которые попечением Фёдора только и жили, день ото дня в крайность шли: раздеты, разуты, оголодавшие, как стая перелетная, холодами прихваченная. Один Яшка Шумский ещё хорохорится:
— Это што! Мой дед в скоморохах был, им при тишайшем царе Алексее ухи щипцами драли, клейма пятнали… Так он с ватагой на край земли подался, за сто лет ему теперь, а всё, сказывают, песельник и балагур!
— Крепок дедка твой, Яша, вот бы его к нам в ватагу!
* * *К декабрю разучили «Синав и Трувор». Лучшего ещё досель не делали. Василёк у матери выпросил рухляди белой, юбок цветастых «пукетовых», епанечек штофных, полотенец узорчатых, что в сундуках с материнским приданым годами слеживалось. Стали князьям новгородским одежду кроить да выгадывать. Фёдор с ролями мается, Яшка на проезжих дворах у коней из хвостов волос крадет — Ильмене косы плетет. Ильмена — Ваня Дмитревский — у посадских девушек лент да кокошников выпросила. В хлопотах да заботах день за днём. И всё бы ничего, как вдруг…
Солдат инвалидной команды о порог крыльца деревянную ногу от снега обстукал, в сенях с усов, с бороды сосульки обронил, шагнул в горницу: «Ступай к воеводе не мешкая!»
Опять к воеводе… опять, стало быть, всё сызнова!…Идут Фёдор со служивым, в сугробах вязнут… У обледенелых колодцев бабы судачат, вслед глядя.
Однако всех раньше до воеводы добралась Матрёна Кирпичёва — бабища, жадностью бесстыжая, а уж говорлива до того, что сам Носов-канцелярист при ней бесхарактерным становился. И сейчас, увидя Матрёну, Носов шмыгнул в соседний покой будить воеводу, а Фёдор с порога:
— Сестрица-голубушка пожаловала… Как живёшь, как худобу твою Господь терпит!
— С тобой, разорителем, я и слова молвить не желаю! — сразу вскинулась на Фёдора Матрёна. — Я на тебя, разбойника, в брех-коллегию жалобу настрочу, ночей не досплю, а уж у бога на тебя вымолю… — и пошла, затарахтела, как бочка с горы. Вернулся Носов, за ним воевода. С воеводой фабрищик Гурьев. Воевода в тяжёлом похмелье, во всем несогласный и ни к чему не резонабельный. Носов ему жбан подвинул. Отхлебнул воевода квасу, полегше стало.
— Что у вас там с Матрёной, дело не моё, — судись себе на здоровье… А вот сословие позоришь, народ мутишь — неладно это! Преосвященный Арсений сетует… Берг-коллегия к совести твоей вот его… — кивнул головой воевода на Гурьева, — наставляет… Вроде как опекать тебя отечески будет… Копиистов моих Ваньку Дмитревского да Лешку Попова с завтрева к службе верну… а то в рекрута сдам, по магистратскому списку… будя такого безобразья!
Воевода задумался, словно задремал. С бороды квас капает на разной важности казенные бумаги…