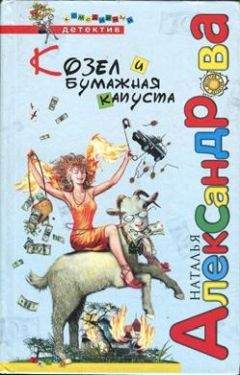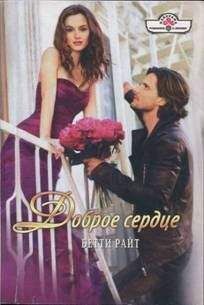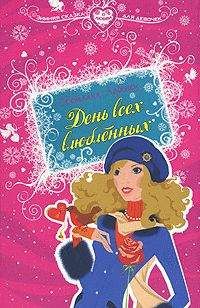Николай Север - Фёдор Волков.Сказ о первом российского театра актёре.
И начался во дворе честной вдовы Матрёны Полушкиной звон колокольный, церковное пение, стук сковород в преисподней, гром небесный… У соседей со двора на двор шёпот идет: «Вот те заводчик, вот те наследник Полушкина, ой, бабоньки, конец света! Антихрист копытом топочет!»
Немудрёная пьеса митрополита Дмитрия Ростовского: чёрт со всей преисподней, ангел с небожителями и человек — лишь один… Между чёртом и ангелом! К греху склонится — чернеет одежда, к добру обратится — белеет балахон. Изо дня в день дергал нитки да крючки к заплатам Фёдор, достиг: ни черти, ни ангелы уследить не могли, как опадает чернота грехов, как светлеет одежда праведного.
У каждого заботы свои, — на что уж черти — так, последнее дело, ан нет, в аду — там, может, огонь-пламя — дело простое, а вот в комедии думай, гадай, как его устроить… Ангелы — тоже… Дмитревский — что мельница на пригорке, стоит, крылами машет, а не летит… Думали так и эдак, — придумали… Стал Ангел аршина на два не то взлетать, не то подпрыгивать, как есть коршун ощипанный, — хорошо!
К декабрю богатых купцов опрашивали, кому на рождество комедию представить. Многие сомневались — как да что…
Все же впустил купец Серов в свой дом первых комедиантов «генваря против восьмого числа 1750 года для играния комедии». А по городу ещё больше шли досужие пересуды: про конец света, про бесовщину, про тех, кто ни стыда, ни страха не ведает… Пуще всех ерепенился тверицкий поп. Да и купечество, хоть и одолжено было Волкову заслугой, все ж его осуждало: «Звание марает, сословие скоморошеством низит!»
Лентовой фабрики содержатель Григорий Гурьев подговорил Гришку Чигерина да Серёгу Мококлюева — всего человек двадцать: «Идущих с комедии боем бить!» Ну и били. Яшку Попова, Алешу Волкова, что с женой был, купца Холщевникова, Семёна Куклина и иных комедиантов с ног посшибали. Содержатель тех дворов Гурьев, выскоча из сеней, сам людей бил и кусал зубами: купцу Холщевникову пальцы искусал до крови и нос расшиб…
Подал Холщевников челобитную, жалуясь на тех злодеев и разбойников. Писал жалобу копиист Демидов, резолюцию к ней приложил воевода Михаила Бобрищев-Пушкин да товарищ воеводы Артамон Левашов. На том и кончилось. Полтораста лет пролежала бумажка, пожухла, посерела, выцвела, как память о первом дне театра русского. А потом затерялась и бумажка…
Знаменит был в Ярославле купец Оловяшников по прозванию Буйло тем, что оловянные полтинники делал и целовальникам их сбывал. В том уличён был, плетьми бит и навечно в Оренбург сослан. Там сумел объявить себя умершим, в Ярославль вернулся и, того лучше, умудрился прожить в нём до старости! В своё время помер по-настоящему, оставив после себя имения: дом ледащий да сарай. Набежали наследники, заспорили… наследье незавидное. К тому ж на сарае замок, большой, что твой церковный! Заржавел, незнамо когда отпирался. Отколотили его обухом, в сарай прошли: пустой сарай, лишь кожи, мышами да крысами изъеденные, в углу лежат, — вот и всё богатство! Плюнув, разошлись наследники. Полушкин через магистрат сарай откупил для заводской надобности. Народ в насмешку сараю прозвище дал «кожевенный». И стал Полушкин, отродясь кожею не занимавшийся, владельцем «кожевенного» сарая…
Удумал Фёдор сарай для играния комедий приспособить, хватит по купецким домам христарадничать. Радость с них, с купечества да фабрищиков, не велика. А тут смотрителей сколько будет! За пятак или иную цену любой приходи — смотри. Народ пойдёт, ко всему доброму жадный!
* * *Угомонилось за Волгой стадо, что с лугов пригнали босые пастухи, отгорела заря вечерняя, звёзды, сколько всего есть звёзд на свете, встали над Волгой, тишину оберегают.
Сидит Фёдор на взгорке зелёном, песню слушает, что пробилась издали ручьем родниковым. Эх, и голос ведет её!
Что по-кад Волгой,
Что по-над кручей,
Пески сыпучи,
Камни горючи!
От слёз сиротских,
От солнца,
От ветра…
— Тянем, по-тя-нем,
Хозяину служим,
Взяли, эх, взяли,
Ну-ка, одюжим!
Понял Фёдор: ватага бурлаков баржу довела до берега, в последнюю силу к берегу чалит, вон — переклик голосов охрипших, остуженных, перехваченных нуждой да горем…
А голос звенит, не срываясь, не отказывая — словно он-то и тянет за собой баржу, как чугун, тяжёлую, волочит:
Что по-над Волгой,
Что по-над кручей
Птица летала,
Перо оброняла…
Красна девица
Шла к перевозу,
Перо собирала…
Тянем, потянем,
Хозяину служим,
Взяли, эх, взяли,
Ну-ка, одюжим!
Зашумела ватага, выбираясь на берег. Дотянули, отмаялись… «Клади костёр, котел давай!» «Власий, шабашить, что ли!» «Всё ребятушки, всё, шабаш!»
Один голосишка, как нитка, тонкий, всех громче комаром зудит, заявляет: «Теперь пшана не жаднюй… теперь не жаднюй!» И стихло вдруг… Попадали, стало быть, на траву, на песок, дух перевести… Оно ведь как: и лямку сбросишь, и сам распрямишься, а в глазах всё ещё зыблются берега без конца, да камни, да вода, что на солнце слепила весь день…
Поднялся на взгорок Власий-старик, ватаги вожак. Глянул на него Фёдор — ахнул! Не перевелись богатыри на Руси, нет! Рубаха, холщевина рваная, от пота бурлацкого закоробилась, отвердела, что кольчуга ржавая, бородища чащобой путаной грудь прикрыла… Обернулся богатырь, вниз голос подал:
— Завтрева с утра к обедне ранней, а отмолившись — в кабак. День и ночь гуляй, а там, благословясь, до Рыбинску… К Онуфреву дню быть надобность!
— Жила лопнет, Власий, на Онуфрев день…
— Ничего, осилишь!
За Власием на пригорок взобрался парень, так ничем не примечательный. А с берегу тонкий голос, что перепел в овсах, нудит и нудит: «Пшана, говорю, не жаднюй, а у тя руки трясутся!»
Парень веточку обломал, пальцами листы растирает:
— Не дойти мне, Власий. Закопаете меня где-нибудь…
Насупил брови дед:
— От Синбирска с нами?
— С него! В косных[13] иду, без сроку, по задатку…
— Наломал пути, а не сдюжил… вертайся, что ли…
— Куда вертаться-то?.. Всё одно уж…
— Одно к одному, верно, — согласился старик, — да и хозяин-то… Он, как ворон, закаркает… Своего не упустит…
— Сиротские гроши мои на ватагу возьми, на помин души… в загашник вшиты.
— Не сумлевайся, помянем. Эх, парень, парень… Голосист ты был, песню вёл завсегда.
— Отпел все песий, батька! Меня за песню Щеглом прозвали, а птичий век короток… Одни вороны долго живут.
Посуровел Власий:
— К обедне завтра не иди. Ну её! И в кабак тоже… можа, отлежишься.
Ссутулясь, как старый медведь, пошёл вниз богатырь… Опустился Щегол на землю, охватив полову, бывает такая тоска у человека — часа смертного хуже…
Не выдержал Фёдор. Тихо, словно не говорил, а так только подумал слова:
— Щегол, а Щегол!
— Ну! Кто тут ещё?..
— Сторонний…
— Что надобно?
— Давеча, как баржу чалили, ты пел?..
— Ну, я…
— Слушал тебя долго… Ждал вот здесь. Поёшь хорошо!
— Как умею…
— Не дойти тебе, Щегол, до Рыбинска…
— Ну и что?
— И назад не дойти…
— Куда же назад?..
— Стало быть, не ходи…
— Как это?..
— Ложись сейчас, спи… Утром иди на Пробойную, спросишь, где Волковы жительствуют. Поживёшь у меня, силы наберёшься… Там видно будет.
Молчит Щегол, ветку совсем ощипал, из рук выронил.
— Пошто смеёшься? Зачем тебе я?!
Ушёл Щегол, прошуршала осыпь под ногами, кусты качнулись…
Заявился Дмитревский, за ним Яков, весёлый, краской перемазанный, охапку облаков на кусты стал развешивать — сушить к завтрему: — Ну вот, теперь всё!
Улыбнулся Фёдор: — Не всё, Яша, это только начало!.. А снизу опять голоса. Гурьев, сердясь, кричит. Ему что тишина да усталь людская, — хозяин! Приумолк было, на пригорок влезая, влез — опять в крик… За ним Щегол понурый идёт, за Щеглом Власий-богатырь.
— Я тебя што… От помещика из крепости вызволил, благодетеля своего в расход вводишь!
— Не серчай, хозяин, смерть подходит. А смерть, она, кому не приведись, всё расход…
— Где смерть, чего смерть! Эдак вы все помирать зачнете… один, другой… А баржа стоит. Хозяину убыток! В лямку иди, не то гляди!
— Ты, хозяин, не того, — загудел Власий, — лямка силы всех требует, нарушит один — вся ватага на износ… Отпусти Щегла, выживет — на обратный путь с Рыбинска опять тебе работник.
— А отсель до Рыбинска — нанимать заместо его? Опять хозяин — благодетель ваш — из последнего траться! Не бывать тому!
— …Не бывать?! — вступился Фёдор. — На мёртвого беглого, говоришь, записал?! Мёртвым именем прикрыл?! Указ государев обходишь?! За это, знаешь, что ноне бывает?!
— Ты… ты, что ж это! — вскинулся Гурьев на Фёдора. — Ты хоть и комедьянт, а все ж наследник — заводчик. Как же ты против своего рода-племени идёшь!