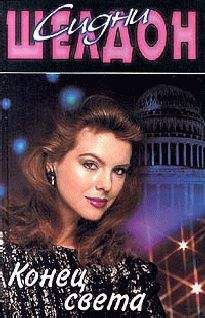Стив Эриксон - Дни между станциями
На самом деле поступки Джейсона нельзя было назвать изменами. Для этого ему недоставало лживости. Он ничего не скрывал. Я трахаю других женщин, сказал он. Не то чтобы я их любил. Это просто единственный способ познать их, который я знаю, а оттого, что я их познаю, сказал он ей, я только больше тебя люблю. Она ответила: «А я от этого не люблю тебя больше. Я от этого люблю тебя меньше». Он понимал, что ей больно, но, должно быть, не понимал, насколько больно, или же ему было все равно. Ему не приходило в голову, что он может потерять ее; он знал, что сейчас, двенадцать лет спустя, она все еще безумно влюблена в него.
Она знала, что его связи не были бесчувственными. Может, его чувства и не были затронуты, но зато затронуты были чувства других женщин. Эти женщины звонили и умоляли позвать его к телефону, когда Лорен брала трубку. Они писали ему письма, которые Лорен находила и читала. Джейсон и не пытался их прятать; с его стороны это было не злым умыслом, а жестоким равнодушием, которое хуже злого умысла, поскольку не содержит страстности, присущей злобе. Это продолжалось годы; он спал со столькими, что и не сосчитать, а с пятью или шестью у него были романы, длившиеся месяцами. Он велел ей встречаться с другими мужчинами. Она переспала с двумя. Она не полюбила ни одного. И больше не пожелала с ними видеться.
Когда котята немного подросли, мать забрала их. Лорен подошла к чулану и увидела, что их нет. Одно окно было открыто – через него они и сбежали. Лорен не ожидала, что они убегут, она не считала кошек своими пленниками. Она грустно смотрела в окно, надеясь хоть на мгновение углядеть их на улице. Через день после того, как они пропали, Джейсон вернулся из северной Калифорнии, куда ездил на гонки. Раньше, когда я жила в Канзасе, я умела призывать кошек, сказала она ему. Да, ответил он, но это было давным-давно, когда ты была молода.
Лорен не понадобилось много времени, чтобы узнать о последней пассии Джейсона; она позвонила в тот же вечер. Джейсон попросил Лорен передать женщине, что его нет дома. На третьем звонке женщина начала плакать. Похоже, ни Джейсону, ни женщине не было дела до того, что посредником в переговорах оказалась его жена. А если это и приходило женщине в голову, ей было все равно, так она отчаялась; Лорен поняла, что женщина решила, будто для Лорен он уже потерян.
Лорен не была так уж уверена, что женщина ошибается.
Она упаковала вещи. Она и раньше так поступала, но в этот раз она собиралась всерьез. Она уходит, она просто больше его не любит. Джейсон зашел в спальню и наблюдал, как она складывает одежду в чемодан. Он присел на кровать и уставился на ее блузки, колготки, белье. Я ухожу от тебя, сказала она. Я просто больше тебя не люблю. В этот раз я всерьез. Он сказал: нет, не всерьез. Он заставил ее присесть и выслушать его. Он положил ей руку на плечо. Ты меня любишь, сказал он. Ты знаешь, что любишь меня и что твое место здесь. Что еще за чушь собачья, вещи она собирает? Мы должны быть вместе, как всегда. Ту, другую женщину я не люблю, сказал он. Это секс, вот и все.
– Она тебя любит, – сказала она.
– Она сама не разбирается в своих чувствах, – сказал он. – Ей только кажется, что она меня любит.
Спустя мгновение Лорен затряслась, прижала ладони к глазам, чтобы остановиться; она проплакала всю ночь и позволила ему обнять ее. Он скинул чемодан на пол и раздел ее. Он взял ее; но если раньше, всегда до сих пор, она припадала к его груди, желая никогда не покидать и не терять его, то в этот раз только моргала, прислушиваясь к его сну и понимая, как была близка к этому.
На следующее утро он сказал ей, что снова уезжает, на этот раз в Техас. Снова гонки.
Снова наступили сумерки, и из окна она увидела одного из котят на улице, сбежала по лестнице к парадной двери и встала в длинной тени, касавшейся ее ног. В закатном солнце окна на улице поблескивали, как золотые зубы, и она услышала – сперва как тихий рокот, который затем перерос в пение сирен, – голоса кошек, как слышала их в полях. Она открыла рот, чтобы позвать их, как раньше; ей было невыносимо одиноко. Она снова приоткрыла рот, снова закрыла. Она ничего не говорила, а лишь глядела на кошек, следивших за ней. Она видела, как их глаза мерцают меж золотых челюстей домов; по тому, как они смотрели на нее, она знала, что она здесь чужая. Вспышки пронзали ее одна за другой. Она стояла на свету и глядела на кошек поодаль. Она ужасно боялась, что позовет их и ни одна не ответит. Через какое-то время кошки сошли со своих постов и исчезли, оставив ее на пороге.
Временами ей все еще слышалось заикание Жюля. Оно будило ее, одну в постели ночью, и она всегда забывала, всего на мгновение, что он уже два года как умер. Вспоминая об этом, она предполагала, что звук ей приснился. Она лежала несколько минут и, если заикание не прекращалось, решала, что это была ее совесть. Совесть напоминала ей, что это она виновата – но это ей и так было давно известно, с первой минуты, как он заговорил. На это ушло столько времени: долгие месяцы он оставался безгласным, безучастным. Когда же заговорил, он сказал: «П-п-п-прощай». Он никуда не собирался, но все равно прощался с ней; с самого начала он планировал уйти.
Отчего-то все это ассоциировалось у нее с потерянной ночью. Потерянной была та ночь в Сан-Франциско, когда она вышла из квартиры, едва поговорив с Джейсоном по телефону, и оставила младенца одного в постели. А дальше она помнила лишь, что глядела на залив, был день, солнце сияло над синей водой, и, сунув руку в карман, она нашла там использованный билет на самолет в Лос-Анджелес, туда и обратно. Потерянная ночь была первым, о чем она подумала, когда Жюль сказал: «П-п-п-прощай». Когда он умер во сне – как будто запоздавшая внезапная грудничковая смерть, сказал один врач, – Лорен поняла, что это смерть, которой он должен был умереть в ту ночь, когда она оставила его одного в постели и куда-то ушла. Ничто не могло поколебать ее убеждения, о котором она не могла рассказать Джейсону. И тогда она осталась одна, без Жюля, и большую часть времени без Джейсона и без кошек, а значит – без своего детства. Все это в конце концов отняло у нее волю к жизни. Воли к жизни в ней было так мало, что она страшилась заглянуть в себя и поискать хоть какое-нибудь желание; она была уверена, что найдет там только повод все завершить; у нее не хватало даже желания умереть. Она часами курила траву; к семи вечера, когда с моря приплывал туман, она вставала с постели и открывала окно; и, снова ложась в постель, она закрывала глаза, возможно, теряя сознание, а может быть, и нет – она не знала, сколько времени проходило каждый вечер, прежде чем она открывала глаза и видела, как серое облако клубится над ней в свете настольной лампы, расцветая пепельной розой и окутывая ее. Добавить марихуаны, добавить тумана, добавить вины – и вот она шаткими шагами отправлялась в паломничество в самую длинную потерянную ночь. Только пол в комнате, который, казалось, позванивал, нарушал сырую, тяжелую атмосферу мертвенности; в то время как все увядало и холодело, пол плыл под ней, как курящийся пруд, а все остальное было во тьме. Она часто смотрела в потолок, на стены, замечая, как пол словно освещает всю комнату, хотя она знала, что на самом деле никакого света нет. Светилось что-то под полом, и тогда она вспоминала, что там живет сосед.
Джейсон заинтересовался соседом, когда начал ходить по клубам. Иногда он брал Лорен с собой; чаще же уходил один и проводил ночь с другими. Лорен надоело липнуть к нему лишь затем, чтобы удержать его от измен. Она предпочитала понемногу умирать.
– Ты не поверишь, – как-то рано утром сказал ей Джейсон, вернувшись домой.
Она глядела на него в темноте, из глубины, из самой середины пепельной розы.
– Мужик под нами, с повязкой на глазу.
Она не помнила никакой повязки.
– Он заведует «Синим тангенсом».
Она кивнула.
– Я его все время там вижу, на лестнице за сценой. Вечером его увидал и говорю: ты, мол, здесь часто бываешь, а он говорит: я здешний директор.
Они оба ждали, пока он договорит.
– Ну, – наконец сказал он, – надо бы вместе сходить туда как-нибудь и познакомиться.
Он сказал это с едва различимым беспокойством в голосе. Лорен была озадачена. Она никогда не слыхивала беспокойства в голосе Джейсона. Но у нее в животе что-то шевельнулось, когда он это сказал. Его лицо было далеко, за лепестками. Она кивнула, и цветок закрылся.
На следующее утро она не была уверена, что вообще что-то слышала. Однако Джейсон снова заговорил об этом, и хотя в его голосе все еще звучала тревога, он, похоже, подавил ее, словно хотел от нее избавиться. Лорен молчаливо противилась этой затее. Так прошло несколько недель.
Джейсон отвел ее в «Синий тангенс» однажды вечером, спустя месяцы после того, как оставил ее в комнате одну. У клуба, вдоль Сансет-Стрип, тусовались подростки, выряженные в кожу и сталь. По улице проносились полицейские автомобили. Всюду был лязг металла, по темному помещению, как змеи, вились кабели. Девушки с обнаженной грудью, в кожаных жилетках, ходили по залу с подносами, полными бокалов, а в темных комнатах Лорен видела мужчин, прикрывавших лицо, когда кто-нибудь зажигал спичку. В воздухе витал запах текилы и бензина. Предводителем музыкантов, выступавших на сцене, была вокалистка, глядевшая на зрителей неживыми глазами, покрытая бисером газолинового пота; ее гармонично диссонирующий голос сочно, раскатисто отдавался в жарком воздухе, словно сама песня отсырела и разбухла. Видно было, как над сценой поднимаются испарения. То и дело зажигалась очередная спичка, так что казалось, будто клуб на грани пожара. В какой-то момент Джейсон сказал ей: «Вон» – и показал на лестницу за сценой.