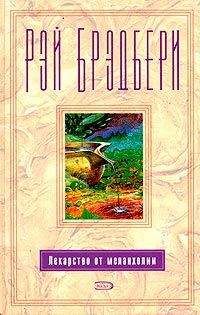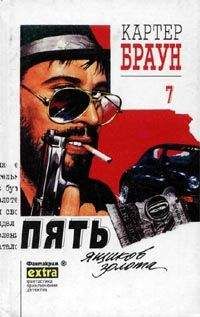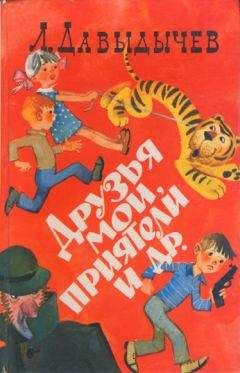Юрий Арабов - Биг-бит
Но отчим не хотел сдаваться без боя. Он противопоставил музыке Фета свой собственный репертуар, который в те далекие годы начал сбивать научно-техническую интеллигенцию с начертанного партией и правительством пути.
Он принес домой пленки, с которых под гитару звучало несколько русских приватно-запрещенных голосов. Один из них, хрипатый, пел какую-то уголовщину и восхищался мужской дружбой в окопах. Мама, правда, сказала отчиму, что все это — дичь, и если человек столь усиленно воспевает мужское, причем делает это с надрывом и вызовом, то значит, с этим мужским у самого певца не все в порядке, что-то не клеится, не стыкуется, не идет как по маслу. Уже позднее, увлекшись поэзией Маяковского, Фет обнаружил у последнего ту же особенность — выдавливать из себя по капле не раба, а грубого мужика, поросшего шерстью, причем выставлять эту шерсть на всеобщее обозрение как эталон. Но в начале 60-х все это еще не приелось, и Фет принял хрипатого как своего. Подражать ему Фет не хотел, в тюрьму и окопы вслед за ним не стремился, но слушал в перерывах между рок-н-роллом, не подозревая, что через тридцать лет подобные блатняки других, более бездарных авторов скуют всю страну. И когда хрипатый задохнулся, как рыба, в душный московский вечер, то Фет разделил со всем советским народом горечь утраты.
Другой голос на пленке отчима был столь лирически-гнусав, что жить не хотелось, и глаза начинали чесаться от подступившей влаги. О чем он пел, оставалось для Фета тайной. Но интеллигенция на прокуренных кухнях рыдала от его петухов, которые кричали всю ночь, как резаные, мотая то ли шеями, то ли крыльями. Фет не знал тогда деревни, но, на всякий случай, спросил маму:
— А разве петухи кричат по ночам?
— Вообще-то нет, — ответила она, подумав. — Они кричат утром. А что?
— Да ничего. Но он же поет «всю ночь кричали петухи». Что это значит?
— Когда вырастешь, поймешь, — уклонилась мама от прямого ответа. — Но знай, сынуля, что это очень талантливый человек.
Странность судьбы гнусавого заключалась в том, что интеллигенция, к которой он обращался со своими петухами, сначала прибила его к кресту. Случилось это в старом Доме кино на улице Воровского, где певец был освистан всем творческим составом, а петухи его, на всякий случай, опущены в суп. Все ждали, что гнусавый воспользуется этим благородным предлогом и прекратит. Но он не прекратил, более того, оправившись от потрясения, предложил зарыть в землю виноградную косточку. Тут уже у всех сдали нервы, все как-то сразу согласились, и с тех пор певец стал своим почти на всех ступенях советской иерархической лестницы. Впоследствии Фет поражался лишь тому факту, что люди, которые восхищались гнусавым, почему-то не зарывали виноградную косточку, не сажали деревьев, лопату в руках держали с трудом, а если что и зарывали против своей воли, так это талант и душевное здоровье. Впрочем, гнусавый был в этом не виноват и, перед смертью покрестившись, снял с себя возможные обвинения в лирическом расслаблении ближних. Он был совестлив и потому застенчив. Но для Фета его косточка оказалась чужой.
Третий голос с пленок отчима был настолько доверителен, что, услышав его, все начинали паковать рюкзаки и задвигать в них стаканы. Доверительный пел про туманы, за которыми надо было ехать почему-то в тайгу, хотя их хватало повсюду, и интеллигенты решили ехать, а те, у кого не хватало денег на проезд, все топали и топали, все шли и шли, а возвращались усталые, но с туманом. От этого рождалось самодовольство от недаром прожитой жизни, и доверительный призывал именно к этому. Природа, особенно подмосковная, не могла выдержать подобного натиска, — в пепелищах от костров валялись банки из-под частика и порванные гитарные струны. Туман окутал природную и социальную жизнь.
Фет понимал, что доверительный проигрывает по таланту хрипатому и гнусавому, и был бы крайне удивлен, если бы ему сказали тогда, что романтика жизни вечного туриста-кочевника окажется наиболее живучей, что на обломках деяний доверительного вырастет Клуб самодеятельной песни, вечные слеты, фестивали-нон-стопы и палатки, палатки до горизонта… Когда же доверительный перед смертью оделся в костюм Бормана и снялся в сериале про фашистов, то Фет вообще списал его со счетов.
Такова была гвардия отчима, противостоящая рок-н-роллу и пленкам Андрюхи Крылова. Гвардия, надо сказать, жидковатая во всех смыслах, но у нее имелось одно тактическое преимущество — трио пело на русском понятном языке, а пленки Андрюхи вопили нечто настолько несуразное, что тетя Сара, переводчица со студии Горького и подруга мамы, прослушав эти пленки три раза, сказала задумчиво Фету: «Про любовь поют. А может, не про любовь. Английский какой-то странный… Как у Бернса». Но что такое Бернс, не объяснила. Фет и не пытался постичь, решив про себя, что на пленках, по-видимому, записана похабель. Но самым уязвимым в позиции Фета было то, что он никак не мог выяснить, кто же это поет и надрывается. Пусть похабель, как у Бернса, но кто? Это оставалось тайной долгое время.
Но мистерию разрушил тот же отчим.
Однажды зимним вечером в начале 65-го года он принес со студии мятую газету и громко прочел, закатывая к потолку уставшие после рабочей смены глаза, мешая напечатанный текст с отсебятиной, чтобы усилить его значение:
— «Бедные навозные жучки!.. Пройдет несколько месяцев, и о вас никто не вспомнит. А имя великого композитора, которого вы оболгали, человечество будет помнить века!» Полюбуйся, Таня, что слушает твой сын! — и он с отвращением кинул к ногам мамы скомканную газету.
Мама куснула свой кулак, чтобы подавить крик отчаяния…
— Может, это все-таки не они? — спросила она с суеверным ужасом.
— Они, бардзо, они! Нутром чую! Принес в дом, бардзо, навозных жучков, которым место в сортире! И кормит меня, бардзо, жучками день и ночь! А мне не нужны, бардзо, навозные жучки! Мне Эдди Рознер нужен, бардзо! А жучки с фекалиями не нужны! На, подавись своими жучками!
— Не ори, подлюга, — душевно сказал ему Фет.
Получилось, конечно, нетактично. Через много лет он уже говорил в подобных случаях иначе: «Не шелести, кулек!». Но до этого скорбного времени было еще далеко.
Услышав «подлюгу», отчим попытался нанести хук справа. Он был поклонник бокса и горячий сторонник открытой стойки, в которой работал польский боксер Дан Поздняк. Фет смотрел с Поздняком только один матч по телевидению. Было это почти ночью, против Поздняка был выставлен какой-то зеленый худосочный юнец, он же и уложил мастера на ринг со второго удара вместе с хваленой открытой стойкой. Отчим говорил, что Поздняк — непонятый гений. И сам, по-видимому, воображал себя Поздняком. Сейчас он решил побоксовать, но Фет легко уклонился от его рокового удара.
— Кто написал статью? — спросил он, на всякий случай уходя в угол.
— Очень большой мастер музыки, — со вздохом произнесла мама. — Ему можно верить.
Она назвала фамилию, которую Фет сразу, по своей особенности, позабыл, но зато на всю жизнь запомнил, что мастер этот написал песню «И в забой отправился парень молодой».
Когда отчим успокоился и попросил тренера сделать ему массаж висков, Фет пробежал заметку глазами, радуясь, что наконец-то пригодился бесполезный ранее навык чтения. Композитор с длинной фамилией сильно негодовал на то, что у неких жучков из далекого заморского города, где все говорили по-английски, есть песня под названием «Катись к черту, Бетховен!». Мастер обиделся настолько, что тут же назвал жучков навозными и пожелал им скорой и бесславной гибели, не уточнив, правда, отчего эта гибель произойдет, то ли от опрыскивания купоросом, то ли под действием песни «И в забой отправился парень молодой». Все это подавалось под рубрикой «Их нравы».
Фет почувствовал нездешнее возбуждение. Навоз он не любил и видел его только на цветочных клумбах Выставки Достижений Народного Хозяйства, но к навозным жучкам относился неплохо. От них кипела жирная мякоть земли, жучки переливались на солнце бирюзой и, говорят, приносили какую-то пользу. Он схватил газету и, ворвавшись в квартиру Андрюхи Крылова, заорал с порога:
— Это не бабы, это не бабы орут! Это навозные жучки!
— Какие жучки? Ты чего плетешь? — спросил недовольно сонный Андрюха.
Фет, не объясняя, сунул ему под нос газету.
Крылов быстро просмотрел заметку.
— Во-первых, не «Катись к черту, Бетховен!», а «Бетховен, отвали!», рассудительно сказал он, зная, по-видимому, более точный перевод оригинального названия.
— В каком смысле, отвали? — не понял Фет.
— В том смысле, что, если он по-хорошему не отвалит, то ему хуже будет, — пояснил Андрюха. — Его просят как человека: «Отвали!». А он не отваливает!
— Ну да, — согласился Фет. — Стоит как вкопанный!
— А во-вторых, не думаю, чтобы это пели навозные жучки… Что-то не похоже!