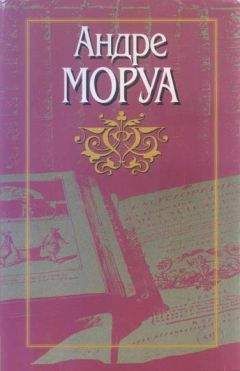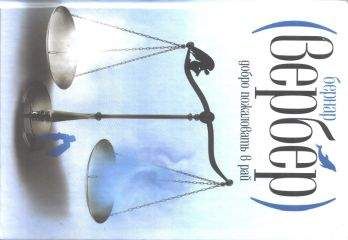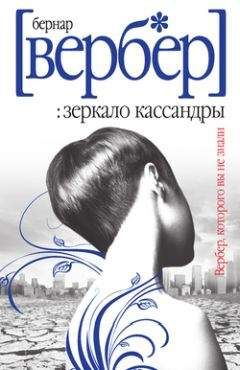Гарри Гордон - Огни притона
— Пусть тебя холера ужинает, — пробормотал Аркаша, положил часы в карман и скрылся в Пале-Рояле.
Гитлерша хмыкнула и направилась к бульвару.
— Я извиняюсь!..
Человек средних лет в костюме и с безукоризненным пробором взял ее за руку.
— Уже? — улыбнулась Гитлерша.
— Вы проститутка?
— Нет, я Клара Цеткин. Ой, ой, как же вы догадались!
— Пойдем. — Заславский поволок ее к скамейке. — Садись. Итак: что вы передали молодому человеку, о чем говорили?
— Я поняла, — медленно сказала Гитлерша. Вы отец — прокурор. Мама Люба хорошо о вас говорила.
— Мама Люба? Фамилия, адрес.
— Да не хипешитесь так, папаша. Не на амвоне. Или что у вас там, трибуна? Я ж говорю — она вас помнит. Короче, поезжайте, только не раньше десяти, — она назвала адрес. — И все узнаете. Ничего страшного.
— Ну что, старый? — Люба с грустной улыбкой смотрела на Романа Борисовича. — Вот ты теперь все знаешь. Ты мне хоть поверил?
— Кому верить, Любушка, как не тебе. — Заславский поднял рюмку — Ну, давай. Можно, я не буду спрашивать, как ты жила все эти… сколько… тринадцать лет?
— Конечно. Все равно не расскажу, или навру что-нибудь. Будь здоров. А пацанчику своему ты найди какую-нибудь чистенькую девочку, а то вот-вот лопнет.
— Где они, эти девочки, — уныло ответил Роман Борисович. — В прокуратуре?
— Понятно. — Люба помолчала. — Ромка, еще неделю назад я бы предложила тебе остаться, а сейчас…
— Ладно, Любушка. Я и сам уже ничему не радуюсь. Даже, — он усмехнулся, — книги стал почитывать. Ну, все. Где ты — я теперь знаю, увидимся иногда. Может, какое-никакое небо в алмазах и перепадет. Пока.
На пляже было пусто как в пятый день творения, на маслянистой воде белела щепотка чаек. Адама не было. Люба, не раздеваясь, покружила по бухте, взбиралась на камни. За дальней скалой она увидела сразу двух студенток с филфака, тех самых…
Они лежали на подстилках в фетровых своих шляпках, уткнувшись в ослепительно белые под прямым солнцем страницы книжек. Люба медленно подошла.
— Эй, сопляжницы, — вызывающе сказала она, — Адам был?
Инна оторвалась от книги:
— Сегодня — нет. И вчера — нет. Позавчера только.
— Может, на Слободку попал, — отозвалась вторая.
— Типун тебе на язык, — поблагодарила Люба и вернулась к своему месту. Она медленно разделась, медленно зашла в воду и медленно поплыла. Отплыв достаточно далеко, Люба повернула к берегу, и вновь, как в прошлый раз, увидела высокий обрыв во весь рост, крутую белую тропинку, уходящую в небо. Все было так же: и темная кромка почвы, и небо такое же сатиновое, только чуть повыше середины тропу перечеркнула свежая осыпь.
С приступом радикулита Люба два дня пролежала пластом, занимая койкоместо и срывая план мероприятий. «Точнее, проект» — усмехнулась она сквозь зубы. Если так пойдет, что же будет осенью…
Дни стояли, как назло, жаркие, а ведь уже середина августа, на море сейчас — милое дело, но Люба туда не пойдет: Адама, чувствовала она, там нет, а карабкаться с больной спиной с горки на горку вхолостую — кому это надо?
Адама разыскать ничего не стоило, только знать бы зачем и что с этим делать. Если он болен — присмотрят добрые люди, и о дочке он что-то говорил, а если он умер — значит, умер и знать ей об этом не надо. Да нет — чувствовала Люба, жив-здоров, только видеть ее не хочет.
— Любчик, так и будешь лежать, как бревно на ленинском субботнике, — спросила Зигота. — Отчего бы тебе не поехать на грязи? Очень помогает, я слышала. Хочешь, Гитлерша тебя проводит?
— Спасибо, Зигуля, — рассмеялась Люба. — Ты очень оригинально предлагаешь помощь… Нет, правда, ты гений.
Гениальная Зигота потянулась:
— А где мои козинаки?
В самом деле — иметь под боком такие всесоюзные здравницы, как Куяльник и Хаджибей!.. Куяльник более пыхатый, там и грязи больше, но добираться туда — не приведи Господь… Штурмовать девятый трамвай, идущий по популярной Лузановке, переть потом три километра сквозь ковыли душной степью — никаких сил не хватит.
А Хаджибей рядышком: тихонечко на двадцатом трамвае и прямо до места. Там не так романтично, как на Куяльнике, и поля орошения рядом воняют, но что Любе надо в свои — сколько сегодня — девяносто лет? — жменю грязи и шматик солнца.
На плоском берегу стеклянного лимана кишели бесполые обнаженные тела, покрытые сизой коркой, и свеженамазанные, черные, и пестрые, с облупившейся грязью и розовыми пятнами кожи. Эти люди давно признали себя больными и держались кучно, не стесняясь болтающихся грудей, дряблых задниц и перепачканных мужских гениталий. Некоторые из них белели в мелкой лужи крепкой ропы.
Люба прошла дальше, где начинался обыкновенный пляж с купальниками, детьми, волейболом и собаками. Пляжники мазались частями, и не без затей — рисовали на спинах рожи, писали веселые буквы. В основном мазали колени, локти и переносицы, от гайморита.
Люба лежала, положив голову на руки, с удовольствием чувствуя, как пошевеливаются на спине чешуйки растрескавшейся под солнцем грязи. Рядом помалкивали еще несколько женщин.
Далеко, у развалин санатория, заорал петух, — там живет сторож, вспомнила Люба, охраняющий довоенные пруды с зеркальным карпом.
Залаяла собачка, все громче, все неугомоннее. Люба подняла голову. Со стороны остановки по берегу шел Аркаша, с жадным ужасом вглядываясь в больные тела.
— О, Боже, — простонала Люба.
Несколько дней Аркаша валялся в своей комнате, читал Достоевского.
— Он совсем не кушает, — испугалась Эля Исааковна, — может, он влюбился?
— Не бери в голову, — пожал плечами Заславский, — от Сонечки Мармеладовой еще никто не умирал.
Он догадывался о причине Аркашкиного недомогания — Валера требовал вернуть деньги. «Интересно, когда он украдет дома» — размышлял Роман Борисович в досаде — душевные силы тратились на черте что.
Аркаша воровать не стал, а подошел однажды и, глядя в угол, признался, что проиграл в буру значительную сумму, а карточный долг, как известно…
— Кому? — спросил Роман Борисович.
— Ты их не знаешь. Пацаны с Ольгиевской. Здоровые.
Роман Борисович придвинул стул:
— Садись, садись. А теперь слушай сюда. — Заславский закурил и весело повел глазами. — Я, конечно, могу привлечь Валеру за вымогательство. Тем более, расписки ты не давал. Тем более, ты не совершеннолетний. Тем более, там потянется такой состав преступлений… ну как, будем сажать кореша? Лет на пять, а? А потом он выйдет…
Аркаша ожидал чего угодно: окриков, оплеух, всевозможных ограничений в правах, но фатер только поигрывал глазами и даже улыбался.
— Откуда… — выдавил Аркаша.
Заславский пожал плечами:
— Еще целых две недели до школы. Заработай. Я знаю? Грузчиком где-нибудь. А то в кинотеатре поиграй перед сеансами. Хочешь, я устрою.
Батя явно издевался: грузчиком Аркашу никто не возьмет. А если возьмет, то сразу выгонит. А в кино… играть перед быдлом, жующим бутерброды… Ну, батя, дает! Где-то надо перезанять. Из всех Аркашиных знакомых такие деньги были только у Любы. Шутка ли — пятьсот рублей. Это две пары остроносых корочек на толкучке, это… А Люба, наверное, столько за день зарабатывает, что ей стоит…
В конце концов, нехай откупится…
Идти к Любе домой Аркаша побоялся — выгонит сразу, не выслушав. Эта баба все может. Бросила же она его на берегу, пьяного и несчастного.
Сходить на пляж, там ей деваться некуда. И просить надо громко, при этом психе она не откажет.
На пляже Любы не было. Не было и психа. Аркаша купаться не стал и, потея, потащился к ней домой. Открыла рыженькая и сонная, очевидно, та самая Зигуля, хмыкнув, она объяснила, что Люба теперь лечится, то ли на Куяльнике, то ли на Хаджибее, можно посмотреть и там и там, семь верст не крюк…
Для начала Аркаша выбрал Хаджибей, что поближе, и шарил вот взглядом по больным органам в поисках знакомых глаз…
— О, Боже, — простонала Люба.
— Вам плохо? — отозвалась соседка.
Люба, опустив глаза, положила подбородок на кулак.
— Безобразие, — сказала она сквозь зубы. — Дожили. Подростки теперь пялятся на голых женщин. Это ни в какие ворота не лезет.
— Действительно! — соседка поднялась, поправила лифчик. — Женщины, — закричала она. — Что вы смотрите! Гоните этого страдателя в шею!
В сонме больных произошло хаотическое движение. На Аркашу надвигались, клубясь, хмурые груди, разъяренные животы, возмущенные лица. «Франциско Гойя», — в ужасе подумал Аркаша, пятясь.
— Геть до мамки! — кричала толпа.
О плечо ударился, разлетевшись брызгами, черный комок грязи.
Люба решила не откладывать поездку к матери, — скоро придет из рейса Костя, все смешается и станет непонятным. Она зашла в Пароходство к Лизе, вытащила подругу в скверик и попросила присмотреть за хозяйством.