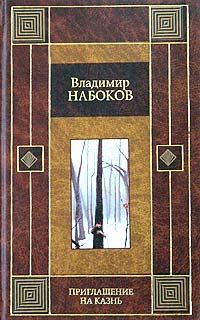Сергей Залыгин - Тропы Алтая
Шла за Лопаревым, молчала, глядела в его коричневый затылок с едва заметными седыми волосками и уже готова была простить ему все: что он послал ее в туман, что не стал искать ее, что он ни словом не может ее пожалеть, — когда Лопарев вдруг остановился, сбросил на землю пенек и, весь потный, ласково сказал этому пеньку:
— У-у-у, проклятый! Образина-то, надо же?! — и засмеялся. Еще раз осмотрел внимательно пенек и только между прочим, не глядя на Онежку, спросил:
— Ну, как в тумане-то? Я думал, гробанешься, чего доброго!
— Вы это с кем разговариваете? — спросила Онежка.
— С тобой, ясное дело… — ничуть не смутился Лопарев.
Онежка не стала отвечать ему, сама спросила:
— А что вы стали бы делать, Михаил Михайлович, если бы я… как это вы говорите… и в самом деле гробанулась?
Тут Лопарев серьезным и деловитым взглядом окинул Онежку всю — с ног до головы.
— Сколько килограммов?
— Каких? — не поняла она.
— Обыкновенных. По тысяче граммов каждый.
Снова она долго не могла понять вопроса, а потом провела ладонью по руке, по лицу, почувствовала, как покраснела вся, и тихо-тихо ответила:
— Давно уже не взвешивалась… А вообще — пятьдесят три…
— Пустяк! — повел он плечами. — Вот эта штука, — он хлопнул по пеньку, — тоже пуда три. С гаком. Ничего, тащу… Утащил бы и тебя!
Лицо у него было все в поту, в земле и в трухе: он испачкался о пенек; уши — оттопыренные и прозрачные, как у ребенка, а коричневые глаза — по-хозяйски строгие. Он был сильный. Действительно, он ее запросто унес бы на своих плечах, если бы она вдруг сломала руку или ногу…
— Михаил Михайлович, ну, а если б я… совсем?
Теперь не понял он:
— То есть как это совсем?
— Очень просто — упала бы с какой-нибудь скалы в тумане, мало ли что может быть, и гробанулась… Сейчас лежала бы на камне… изувеченная… мертвая…
— Выдумываешь! — засмеялся Лопарев. — Трусиха! Знаешь, так не бывает!
Он сказал это с таким убеждением, что Онежка вздрогнула вся. Приостановилась: «Почему так не бывает? Почему так не могло быть с ней, если всего лишь час или два назад так было?» Лопарев же медлил с ответом на ее безмолвный вопрос и только после долгой-долгой паузы заговорил снова:
— С первого же раза и совсем? Не бывает. Человек много раз споткнется, потом, смотришь, грохнулся. Почему грохнулся? Не боится больше спотыкаться, вот почему. Привыкает. Начинает думать, будто спотыкаться — это можно, это не беда. Тут как раз беда к нему… В общем, философия. Ты думаешь, для чего мне эта коряга?
Коряга интересовала Онежку, но не сейчас. Сейчас она обдумывала слова Лопарева, эти слова заставили ее сосредоточенно размышлять. Однако Лопарев был настойчив.
— Так вот скажи, для чего мне коряга?
— Ну, не знаю…
— Думаешь, зря тащу, надсаживаюсь? Шалишь, брат! — кому-то он погрозил кулаком. — Точно, шалишь! Вот приволоку ее домой, ровненько пилой срежу, рассмотрю во всех подробностях, голубушку. Дереву было триста лет. Не веришь? Спорю на что угодно! Не смотри, что пенек тонкий. Условия внешней среды — не очень-то растолстеешь на верхней границе леса. Ну вот, триста лет, и за все триста лет климат здесь отпечатался. В институте учила? Знаешь?
Онежка учила, знала, но тут она захотела, чтобы Лопарев говорил и дальше. Она промолчала. Лопарев же теперь не заставлял себя долго ждать:
— Во влажные годы прирост у дерева большой. В засушливые — годовые слои совсем тонкие, сливаются. И пожалуйста, на этом пеньке летопись осадков за триста лет. Вот тут можно рассмотреть: самый продолжительный засушливый период наступил, когда лиственнице было лет сто… Длился он девять лет. Пусть двенадцать. Еще через семьдесят, то ли восемьдесят лет — дома сосчитаю точно — снова засушливый период, еще спустя полвека…
— Ну а что же дальше? Что теперь?
— Теперь вот что. Если лиственница вымирает, как говорят иные ученые мужи, так у нее таких трудных периодов должно быть в жизни больше, и они будут продолжительнее, чем у других деревьев. У кедра, к примеру.
— Так…
— Ну, а если срез лиственницы дает совершенно такую же картину роста, как деревья других пород, это значит, вымирает она или нет? Твое мнение?
— Нет. Не вымирает.
Лопарев не скрывал радости.
— Видишь! — сказал он. — И до тебя дошло! Верно, не вымирает! Куда мы с тобой заглянем через этот, пенек: на три века назад, а значит, и вперед на столько же, как не больше! Открытие! Это тебе понятно? Доходит? — И, не дождавшись ответа, взвалил пенек на плечо. — Пошли! Не терпится мне! Теперь я таких пеньков наворочаю — гору! Своя методика! Сила! Железобетон!
Снова шли по тропе, снова Онежке хотелось сказать, что лишь сегодня, совсем недавно, пересчитывая число хвоинок в пучке, она тоже побывала там — в далеком будущем, и прикоснулась уже к открытию. Напрасно Лопарев думает, будто это ей недоступно. Но что-то мешало так сказать, и только возник вдруг тот самый мотив, который ее сопровождал, когда все это было с ней. Она сказала Лопареву, что у нее ведь полная сумка шишек лиственницы. Как Лопарев велел, так она и собирала эти шишки.
Он не расслышал.
— О чем ты? — А когда она повторила махнул рукой: — Выбрось!
— Что?
— Да шишки-то!
— Шишки?! Но ведь я же их собирала!
— У академика Сукачева такая, брат, коллекция шишек лиственницы сибирской, что нам ни в жизнь не собрать! Проще поехать в Ленинград и там эти шишки изучить. Ясное дело, мы тоже их будем собирать, но только по другой методике. А эти можешь выбросить.
— Но я же их собирала! Записывала! Лазила по скалам! В тумане! Для чего же все это?!
— Для практики! Скалы для практики! Туман тоже! Поучиться кое-чему. Прочувствовала? Перетрусила в тумане? А? Подожди — приедет начальник, профессор доктор Вершинин, ты у него какую еще практику пройдешь!
Такой между ними был разговор. Лопарев сначала Онежку обескураживал, обижал своей грубостью, но тут возникал еще и другой, сокровенный смысл его слов, смысл, который отвечал только что пережитым и еще не остывшим в ней чувствам.
Как только они снова встретились, первое, что Лопарев сделал, спросил, — спросил, жива ли она. Вопрос был небрежный и обидный, но ведь ей нужно было убедиться, что она — жива…
Потом он обидел ее снова, засмеявшись и назвав трусихой, но тут же объяснил, почему не следовало ей бояться там, на скале, над пропастью. Как будто знал все, что с нею случилось.
Об открытии, о том, что лиственничный пень нужен ему, чтобы заглянуть на триста лет назад, на триста вперед, он говорил с ней тоже пренебрежительно: «И до тебя дошло?!» Но Онежка была Лопареву благодарна: без этих его слов она все еще чего-то боялась бы и страшилась, без них она, наверное, забыла бы то чудесное настроение, которое сопровождало ее в начале маршрута. Забыла навсегда…
Теперь Лопарев сказал: все, что она делала в горах, все это пустяки, только «для практики». Ей бы обидеться, разреветься, наговорить ему дерзостей. Но Лопарев спросил ее: «Прочувствовала?» И почему-то это слово заставило ее понять, что и в самом деле записи в журнале, показания анероида, шишки, которые она собрала, иголки, которые пересчитала в пучках, — это не главное. Главное — то, что она пережила в горах, «прочувствовала» там, на краю пропасти. И Онежка не заплакала, сказала:
— Там было очень красиво… когда засверкало все…
И только сейчас увидела, как это действительно красиво было: ночь отступает, а навстречу ей мчится яркий день, она же стоит над самой пропастью с вытянутыми вперед руками. Ждет… Ждет чего-то. Ах, если бы Михмих был в тот момент у подножья скалы и видел ее, Онежку, — красивую, всю в радужном сиянии, на огромной-огромной высоте!
И умный и глупый Михмих! Ничего не видел, ничего не знал! Не знал даже, какие слова говорил он ей сейчас!
Оглянулась вокруг… Все те же горы, те же дали. Но теперь она убедилась, что не может отказать ни в доверии, ни в любви этому миру, который едва не погубил ее… «Ведь любят не только за то, что приносит тебе счастье, — неожиданно для себя подумала она. — Любят, когда знают, что любовь — это испытание. Любят, когда не знают, чего ждать от любви».
В лагере их встретили так, как должны были встретить: никто ничего не заметил, ни о чем не догадался.
Только Рита спросила:
— Ну, прогулялась с Лопаревым? — Но спросила потому, что всегда и без всякой надобности любила в таком духе говорить и спрашивать.
Доктор медицины отметил, что обед готов, но никто не знает, вкусно или нет получилось. Нужно, чтобы Онежка сняла пробу.
Андрей возился с сетками для гербария, не сказал ничего. Рязанцев же уставился на Онежку из-под очков.
— А ведь без вас здесь было плохо, — сказал он. — Неуютно было…
Вечером, уже перед самыми сумерками, Лопарев зачем-то заглянул в палатку девушек. Потянул носом громко и не один раз: